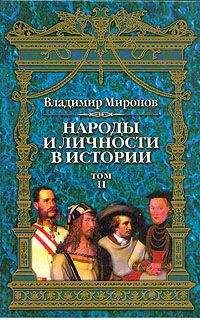Становится страшно, когда, глядя на карту земного шара, видишь эту массу невежества и одичания, которые царят на земле. В чем состоит заслуга или в чем состоит отсутствие заслуги так называемой духовной стороны бесчисленного количества существ, носящих имя человека, но не имеющих представления, что есть добро и что есть зло, не заботящихся, откуда они пришли и куда идут, – крадущих, обманывающих, убивающих при удобном случае не диких врагов, а таких же людских особей, сотворенных по их же образу и подобию?».[168] Верно заметил Делакруа: Европа, гордящаяся ее просвещением, фактически как бы вновь опускается «во тьму новейшего варварства».
Ощущение страха и неуверенности поразило самую сердцевину общества в конце века. Может, причина была в том, что оно уже видело на горизонте «миллионы призраков»?! Эти «призраки» пока еще преспокойно расхаживали по улицам и площадям Европы, не ведая того, что их ожидает. Коренным образом менялся не только образ жизни людей, но мировоззрение элиты, типы людей. Капитализм агрессивно вторгался в душу человека. Он заметно изменил поведение.
Новый тип, что явился на земле, был крайне агрессивен, неустойчив, лицемерен, фальшив.[169] В своем очерке «Становление цивилизаций» А. Тойнби писал: «Будущие историки скажут, мне кажется, что великим событием XX века было воздействие Западной цивилизации на все другие жившие в мире того времени общества. Историки скажут, что воздействие было столь мощным и всепроникающим, что перевернуло вверх дном, вывернуло наизнанку жизнь всех его бесчисленных жертв, повлияв на поведение, мировоззрение, чувства и верования отдельных людей – мужчин, женщин, детей, – затронув те струны человеческой души, которые не откликаются на внешние материальные силы, какими бы зловещими и ужасными они ни были».[170] Из Манифеста 20 февраля 1909 г. Ф.Т. Маринетти: «Мы молоды, сильны, живем в полную силу, мы футуристы» А ну-ка. где там славные поджигатели с обожженными руками. Давайте-ка сюда! Тащите огня к библиотечным полкам! Направьте воду каналов в музейные склепы и затопите их! И пусть течение уносит древние полотна! Хватайте кирки и лопаты! Крушите древние города! <…>
Не где-нибудь, а в Италии провозглашаем мы этот манифест. Он перевернет и спалит весь мир. Сегодня этим манифестом мы закладываем основы футуризма. Пора избавить Италию от всей этой заразы – историков, археологов, искусствоведов н антикваров <… > Не существует красоты вне борьбы, нет шедевров без агрессивности. Мы на мысе веков <… > Пространство и время умерли вчера. Мы прославляем войну – единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительный жест анархистов, жест, обрекающий на смерть и презрение к женщине <…> Мы будем воспевать рабочий шум, радостный гул и бунтарский рев толпы, пеструю разноголосицу революционного вихря в наших столицах, ночное гудение в портах и на верфях под слепящим снегом электрических лун. Пусть заводы привязаны к облакам за ниточки вырывающихся из их труб дыма. Пусть мосты гимнастическим прыжком перекинутся через ослепительно сверкающую под солнцем гладь рек. Пусть пройдохи пароходы обнюхивают горизонт. Пусть широкогрудые паровозы, эти стальные кони в сбруе из труб, пляшут и пыхтят от нетерпения на рельсах. Пусть аэропланы скользят по небу, а рев винтов сливается с плеском знамен и рукоплесканиями восторженной толпы".[171]
В то же время очевидно, что XIX в. стал важным аккордом в симфонии модернизации буржуазных порядков и стран. В Англии завершался «викторианский век» (королева Виктория умерла в 1901 г.). Франция, пережив героическую трагедию Парижской Коммуны, обратилась к науке и образованию. Германия выдвинула Бисмарка, человека, которого «Господь Бог сделал в своих руках инструментом для реализации бессмертной идеи германского объединения и величия». Япония входила в эпоху революции Мэйдзи. Везде на первые роли выходят наука, индустрия, образование – святая троица прогресса.
Нельзя не заметить общности кризисов в развитии культуры и цивилизации, с одной стороны, и художественного мастерства, с другой. Один из российских исследователей искусства объяснял причины изменения стиля Пикассо тем, что тот отдал дань греческой архаике, этрусскому и египетскому искусству, иберийской скульптуре и кикладским «идолам». О «Портрете Гертруды Стайн» (1906), представляющим собой некую маску, В. Мариманов пишет: «Это было начало глубокого кризиса, причем это не были обычные для художника трудности воплощения замысла. С самого начала своей изобразительной деятельности Пикассо в совершенстве владел мастерством: об этом говорят его юношеские работы… дальнейшая эволюция его творчества показывает, что это был момент радикального изменения и концепции изображения, и концепции человека… Вряд ли художник отдавал себе отчет в том, что речь идет о преображении картины мира, радикальном переосмыслении ее Центрального образа – ее эстетики».[172] И тут важна отнюдь не формальная сторона вопроса. Суть в ином: в идолизации ценностей и устоев мира.
Если все великие художники прошлого считали важнейшим критерием искусства «правду», то Пикассо, следуя за установками нашего лживого времени, и к искусству предъявляет иные требования. В своем интервью с С. Фельсом (1923), часто беседовавшим с художником, Пикассо говорил так: «Мы знаем теперь, что искусство не есть правда. Искусство – это ложь, которая позволяет нам приблизиться к правде, по крайней мере к той, которая нам доступна. Художник должен убедить публику в полной правдоподобности своей лжи… Кубизм – это не зародыш искусства и не искусство в периоде беременности, но искусство первичных форм, и эти формы имеют право на существование».[173] Это не поиск новых форм, но скорее обращение к варварству как к форме бытия.
Пикассо как-то заметил: «Надо потратить много времени, чтобы стать, наконец, молодым». Для XX века, века насыщенного катаклизмами, войнами, террором и ненавистью, как нам кажется, более верной и точной была бы иная формулировка: «Нужно быстрее состариться, чтобы успеть умереть молодым». Новые поколения учатся быть стариками уже едва ли не с колыбели, поскольку они попадают под пяту плутократии (финансовой, политической, культурной), которая, по сути, античеловечна, лишена всякой романтики.
В этом смысле показательна судьба итальянца Амедео Модильяни (1884–1920). Красавец, талант, искренний и обаятельный человек, которого безумно любили женщины, не мог не привлечь внимания ценителей. Может быть, именно судьба Модильяни наиболее выразительна. Он всегда сам выбирал модели для его картин и терпеть не мог никаких официальных заказов. Это был художник-поэт, своего рода духовный исповедник с мольбертом. Жан Кокто сказал о нем: «Его рисунок был молчаливым разговором». Ему абсолютна чужда идея быть чьим-то раболепным слугой. Он «судил, любил или опровергал» все, что привлекало его взор (или вызывало гнев и ненависть). Модильяни с какой-то особой любовью относился к простым людям (горничным, консьержкам, натурщицам, модисткам, рассыльным и подмастерьям). Его можно назвать «сыном простого народа». После того, как он решительно оставил лицей, заявив матери, что отныне и впредь будет заниматься только своей живописью, Модильяни служил верой и правдой этому призванию. Дальнейшая его жизнь была полна приключений, взлетов, падений.
Никто из современников так не владел линией рисунка (разве что О. Бердслей). Дочь Жанна назвала линию в живописи отца своего рода «диалектической связью между поверхностью и глубиной». Это, видимо, так (вспомним и образ Ахматовой, созданный им одной линией в 1911 г.). Однако линия его жизни прервалась катастрофически быстро. Затрудняюсь сказать, что сыграло тут решающую роль: любовные приключения, пристрастие к вину и гашишу, легенда о «проклятом художнике» («peintre maudit»), постоянные перемены жительства, напоминающие скорее бегство, нападки полиции на портреты его великолепных «ню», обвинение прессы в адрес Модильяни, что он, дескать, «оскорбляет нравственность». Причину его трагедии выразил писатель И. Эренбург, посвятивший целую главу «другу далекой молодости»: «Пишут, пишут – «пил, буянил, умер»… Не в этом дело. Дело даже не в его судьбе, назидательной, как древняя притча. Его судьба была тесно связана с судьбами других, и если кто-нибудь захочет понять драму Модильяни, пусть он вспомнит не гашиш, а удушающие газы, пусть подумает о растерянной, оцепеневшей Европе, об извилистых путях века, о судьбе любой модели Модильяни, вокруг которой уже сжималось железное кольцо». Эренбург увидел в нем Личность. И в разговоре очень точно добавил, что личность – довольно редкое явление среди художников. Не только среди художников, но и среди всей интеллигенции.[174]
Пусть люди художественного и творческого склада (а это, вероятно, далеко не худшая часть человечества) воспримут как святой завет наказ художника Модильяни, однажды высказанный им другу (Оскару Гилья): «Мы – извини меня за мы – имеем иные права, чем все другие, ибо имеем обязанности, отличные от обязанностей других, обязанности, которые выше – надо думать – произносимых ими речей и их морали… Твой истинный долг – спасти свою мечту. Красота также имеет мучительные обязанности, требующие лучших сил души. Каждое преодоленное препятствие означает укрепление нашей воли, дает необходимое и освежающее обновление нашего вдохновения. Свято преклоняйся – я это говорю тебе и себе – всему тому, что может возбудить и пробудить твой разум. Старайся вызвать, продлить эти радостные стимулы, потому что только они могут дать толчок твоему уму, привести его в состояние высшей творческой мощи. Именно за это мы должны бороться. Можем ли мы замкнуться в темный круг их узкой морали? Человек, который не умеет приложить свою энергию, чтобы дать волю новым стремлениям или уничтожить все то, что устарело и сгнило, – не человек, а буржуа, торгаш, все, что хочешь».[175] Эти слова Модильяни должны были бы стать девизом Личности.