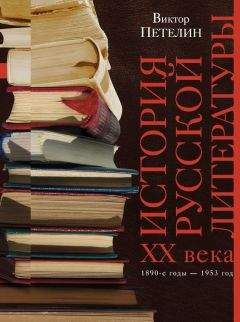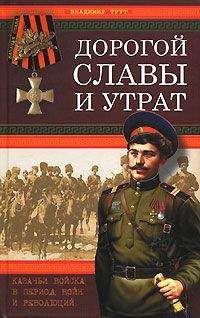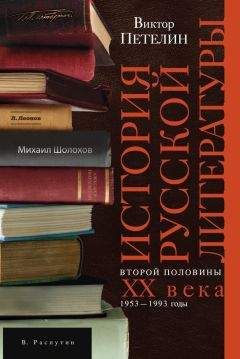Ознакомительная версия.
Однажды Вячеслав Иванов задумал примирить символистов с реалистами. Он пригласил на одну из «сред» Арцыбашева, Анатолия Каменского, ходивших в реалистах. Анатолий Каменский, очередь которого пришла читать своё произведение, неожиданно для всех отказался и беспомощно от застенчивости посматривал на окружающих, умоляя выручить его из неловкого положения. Глаза его остановились на В. Пясте, попросил его, тот согласился.
Повесть Каменского называлась «Четыре». Трудно себе представить более разнузданное и безнравственное произведение. В. Пяст внешне спокойно и бесстрастно читал это сочинение, а сам каждую минуту готов был провалиться сквозь землю от стыда. А между тем комната наполнялась приглашёнными. И многие не знали, кому принадлежит это сочинение, уж не В. Пясту ли, этому милому и застенчивому юноше из хорошей семьи.
Мережковский сидел насупленный, явно недовольный тем, что сюда, где так поклонялись искусству, словно ворвались варвары и наносили удары по самым драгоценным шедеврам мирового искусства.
Вошёл В.В. Розанов и остановился в дверях, не решаясь прервать чтения. Воспользовавшись тем, что хозяин встал навстречу столь редкому здесь гостю, В. Пяст, который уже давно хотел найти предлог, чтобы отказаться от чтения, наконец решился:
– Не могу больше, в горле першит, у меня что-то плохо получается.
Арцыбашев тут же взялся заменить В. Пяста. И долго ещё раздавался его неприятный писклявый голос…
Всем было неловко, настолько прочитанное было непонятно, непривычно здесь. Разумеется, никакого диспута эта вещь А. Каменского не вызвала. Выступил только Вячеслав Иванов, по обыкновению своему то и дело вскидывая руку к пенсне, вспоминали современники, а потом, довольно потирая руки, осыпал автора пригоршнями изысканных любезностей, смысл которых был настолько туманен, настолько тонул в выспренней витиеватости и глубокомыслии слов, что не только присутствующие здесь, но и сам автор, кажется, ничего не поняли. После этого ничего не оставалось делать, как разойтись.
В конце вечера начиналась беседа на какую-нибудь религиозно-философскую тему. Ни у кого не возникало сомнений, что председателем должен быть Н.А. Бердяев. «Молодой человек, – вспоминает В. Пяст, – довольно высокий, с красивой гривою волос, он, как многие помнят, был страшно обезображен (в отношении наружности) тогда ещё только начинавшим разыгрываться «тиком». Бердяев был большим мастером «разговора».
В разгар революционных событий Нестор Котляревский упрекнул собравшихся здесь в том, что они ушли от общественной жизни, замкнулись в кругу эстетических проблем. Выступление его было встречено по-разному. Одни иронизировали над ним, зная, что сам-то Котляревский не очень активен в общественной жизни, другие сочувственно кивали, понимая всю свою бесполезность в решающие мгновения исторической жизни.
«Среды» стали привлекать всё больше и больше посетителей, различных по своим идейно-художественным исканиям. Бывали В.А. Нувель, А.П. Нурок и другие члены кружка «Мир искусства». А.В. Луначарский и некоторые другие марксисты не раз приходили сюда…
Полиция заинтересовалась этими собраниями и 27 декабря 1905 года нагрянула к Вячеславу Иванову с обыском. Во втором часу ночи небольшой отряд агентов и солдат во главе с действительным статским советником неожиданно для собравшихся вошёл в квартиру и сразу занял все входы и выходы. На чердаке нашли два номера «Революционной России», ввоз которой из-за границы был запрещён. Вот и всё, что нашли нелегального в квартире Вячеслава Иванова. Но все присутствовавшие прошли через унизительную процедуру обыска и допроса. Подходили к столу, за которым составлялся протокол, называли себя, выворачивали карманы, ловкие руки филёров ласково проходились сверху вниз по одежде, и наступала очередь следующего.
Этот обыск, конечно, ничего не дал, были задержаны молодой философ Л.Е. Галич да мать Макса Волошина, пожилая полная дама со стрижеными вьющимися волосами, недавно прибывшие из-за границы.
Вячеслав Иванов горячо протестовал против незаконных действий полиции:
– Вы нарушаете священную неприкосновенность жилища, свободу личности.
– А это что? – потрясая двумя номерами «Революционной России», спокойно возражал ему действительный статский советник.
– Мы же – заграничники, – оправдывался Вячеслав Иванов.
Всё обошлось, только у Д.С. Мережковского пропала шапка, дорогая, бобровая. В одном из ближайших номеров «Товарища» («Наша жизнь», «Речь», газета Л.В. Ходского) он опубликовал «Письмо в редакцию» («Куда девалась моя шапка?»), в котором, обращаясь непосредственно к премьер-министру С.Ю. Витте, требовал возвращения своей шапки. Разговоры об этой шапке долго ещё ходили в петербургских кругах.
В «Дневниках» Валерия Брюсова есть такая запись: «Зима 1908–1909. «Дом песен». «Эстетика», Гр. А. Толстой в Москве. Гипнотические сеансы у д-ра Катерева. Поездка в Петербург. Две недели в Петербурге. Посещение Бенуа. У Маковского переговоры о «Аполлоне».
Гр. А. Толстой, «Салон» и лекция Макса Волошина. Вечера с Вяч. Ивановым. Его лекция. Не был у Сологуба, который обиделся».
Сколько здесь встреч, разговоров, заседаний, споров, известных имён! А между тем дважды упоминается граф А. Толстой. В литературных кругах имя Алексея Толстого становится известным. Ещё в Париже Алексей Толстой расспрашивал Волошина о том, почему вдруг так ожесточённо атаковали друг друга две дружественные группы: Иванов, Чулков, Блок, Городецкий с одной стороны, и Брюсов, Белый, Эллис – с другой. «Золотое руно», «Факелы», «Ор», а против них – «Скорпион», «Весы», «Перевал». Мудрый Волошин так объяснил ему этот парадокс: символистов и декадентов стали принимать повсюду, они завоевали все литературные салоны, их стали печатать почти во всех газетах и журналах. Тогда-то и обнаружились внутренние противоречия в самом символизме. Группа Иванова относилась ко всем теориям как к игре, правила которой можно принимать, а можно при удобном случае от них отказаться. Московские символисты упрямо держались за свои позиции и стойко отстаивали их. И когда заметили, что в Петербурге договорились до «мистического анархизма», открыли изо всех своих московских орудий критический огонь против «путаников». Особенно яростным был Андрей Белый.
Сейчас уже несколько остыла декадентская шумиха. Вячеслав Великолепный стал суше, серьёзней, сбрил бороду и усы, как-то подтянулся, откровенно засеребрились его поникшие локоны. Но по-прежнему он поражал своей эрудицией, своими познаниями ритмики, стихосложения вообще.
К этому времени его студия уже значительно расширилась, поглотив две соседние квартиры, и представляла собой обширнейшее помещение, в котором причудливо сочетались большие квадратные комнаты и какие-то коридорчики, книжные полки, качающиеся этажерки. Одни комнаты напоминали музей, другие – точно сарай. Пройдёшь по всей этой квартире и забудешь, по словам Белого, в какой ты стране, в каком времени. Всё это походило действительно на «становище», по меткому выражению Д.С. Мережковского. Быт этого дома исключительный, неповторимый, но вдумчивые посетители поняли: серьёзно втягиваться в такую жизнь не стоит.
«Вячеслав Великолепный просыпался часа в три дня, до семи, не вставая с дивана, работал, читал корректуры, рукописи, писал статьи, стихи, попивая черный чай, подаваемый прямо в постель; часам к восьми вечера, отдохнувший, посвежевший, являлся к обеду. Часов до одиннадцати бывал у друзей с визитами, а к одиннадцати начиналась ночная жизнь в «Башне». Чай подавался не ранее полночи; до – разговоры отдельные в «логовах» разъединенных; в оранжевой комнате у Вячеслава, бывало, совет Петербургского религиозно-философского общества. У падчерицы собираются курсистки. В комнате Михаила Кузмина можно встретить сотрудников и авторов журнала «Аполлон», Гумилёва, Садовскую, Зноско-Боровского, Сергея Маковского. К двум исчезают «чужие», Иванов, сутулясь в накидке, став очень уютным, лукавым, с потугом своих зябких рук, перетрясывает золотою копною, упавшей на плечи… Являлся второй самовар: часа в три; и тогда к Кузмину:
– Вы, Михаил Алексеевич, – спойте.
М.А. Кузмин – за рояль: петь стихи свои, аккомпанируя музыкой, им сочиняемой, – хриплым, надтреснутым голосом, а выходило чудесно», – вспоминал А. Белый.
Андрей Белый подолгу жил у Вячеслава Иванова. Вот он вспоминает это время: «Утро, – правильный день: вставал в час, попадал к самовару, в столовую, дальнюю, около логовища Кузмина. Кузмин в русской рубахе без пояса гнётся, бывало, над рукописью под парком самовара; увидев меня, наливает мне чай, занимает меня разговором, с раскуром: уютный, чернявый, морщавый, домашний и лысенький; чуть шепелявит; сидит, вдруг пройдётся, и сядет; «здесь» – очень простой; в «Аполлоне» – далёкий, враждебный, подтянутый и элегантный; он – антагонист символистам; на «Башне» влетело ему от Иванова; этот последний привяжется: ходит, журит, угрожает, притоптывает, издевается над «Аполлоном»; Кузмин просто ангел терпенья, моргает, покуривает, шепелявит: «Да что вы, да нет!» А потом тихомолком уйдет в «Аполлон»: строчит колкость по нашему адресу; – и неприятный «сюрприз». И – разносы опять. Вячеслав любил шуточные поединки, стравливая меня с Гумилёвым, являвшимся в час, ночевать (не поспел в свое Царское), в чёрном, изысканном фраке, с цилиндром, в перчатках; сидел, точно палка, с надменным, чуть-чуть ироническим, но добродушным лицом; и парировал видом наскоки Иванова».
Ознакомительная версия.