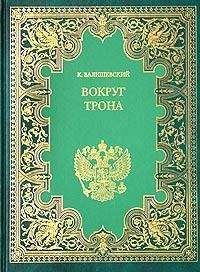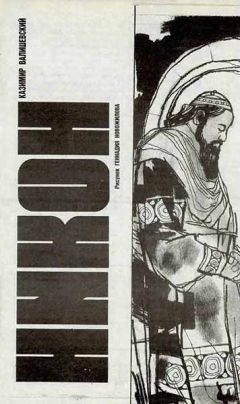И вот Дидро начал разыгрывать д’Эона или Лозёна, превращаясь в добровольного маклера по делам официальной дипломами и политики! Если послушать послов, берлинского или лондонского, он далеко не блестяще исполнил эту роль. Сольмс утверждает, что Панин передавал ему, будто императрица заставила замолчать импровизированного политика, прося его предоставить дипломатию тем, чье дело заниматься ею. Гёнинг утверждает, что она при нем бросила в огонь записку от Дюрана, которую Дидро вздумал было передать ей. Но рассказ самого Дюрана, выводящий на сцену угодливого Гримма, который естественно был замешан в эту путаницу, кажется правдоподобнее. Мы читаем в депеше от 15 февраля 1774 г. «У меня есть некоторые доказательства, что гг. Дидро и Гримм держали себя как я желал. Государыня в присутствии многих упрекала последнего довольно живо, не смеясь, что он выставил ее проникнутой манией предрассудков против нас, а затем сказала Дидро, сидевшему у ее постели: „Можете вы привести мне пример на основании системы, которую вы, кажется, защищали, что есть люди злые по принципу? – Я приведу вам пример из высокого класса и во главе всех других назову вам короля прусского. – Я вас попрошу остановиться, – сказала она и переменила тему“.
Во всяком случае, этот разговор не имел особенного значения и не помешал Екатерине в другой раз – как утверждает тот же Дюран – самой жаловаться на злобу Фридриха, поставившего ее в неприятное положение перед современным общественным мнением и перед мнением потомства, предложив ей раздел Польши. Но это было уже дело прошлое. В настоящую минуту она не нуждалась в Дидро, как в посреднике. Она прямо и довольно забавно объяснила это Дюрану: она находила своего гостя в одно и то же время слишком старым и слишком молодым для такой роли. В некоторых отношениях кажется, будто ему сто лет, а в других – десять. Екатерине было нетрудно отвлечь философа от этого скользкого пути. Она показала ему учебные заведения, и он тотчас же бросился по этому новому следу. Все, что ему показывали и рассказывали, приводило его в восторг. Особенно планы и уставы – одни еще не вполне выполненные, другие же не вполне примененные – казались ему совершенством. Он не знал или забыл, что пословица «бумага все терпит» имеет особенный смысл в России. Дидро немедленно просил перевести ему эти уставы и предполагал напечатать их, что и исполнил позднее. И тут он опять проповедовал в пустыне. Идеям, которые он так бросал на ветер, даже на родине его – даже в стране самой высокой европейской культуры – пришлось прождать больше века, прежде чем прорости и принести плод. Дидро проповедовал всеобщее обучение. Он желал изгнать из школы греческий и латинский языки, уменьшить нагромождение школьного материала! Говорить ему не мешали. Позднее, когда, вернувшись во Францию, он написал свой «план русского университета», обширную программу полного национального образования,[64] – эта работа нашла себе оценку и применение во Франции и Германии. В России же она встретила полное пренебрежение и забвение. До сих пор нет ни одного перевода этого Плана.[65]
Театральные представления воспитанниц Смольного Института и воспитанников Кадетского корпуса, к счастью, доставили философу более благоприятный случай для применения его возвышенных намерений и блестящих способностей. Одна из его любимых тем: «Воспитание с помощью театра», нашла себе легкое приложение. Не довольствуясь устным развитием своих взглядов на этот предмет, всегда неутомимый Дидро бомбардировал императрицу длинными записками, из которых до нас дошло несколько отрывков. Нельзя не признать остроумия, неистощимой плодовитости и в то же время инстинктивной верности этого изумительного ума.
«Признаюсь Вашему Величеству, – писал он, – что меня если бы не огорчило, то, по крайней мере, озаботило, когда бы мои дети играли так же хорошо. Пьесы, которые их заставляют представлять, вовсе не кажутся мне приспособленными к развитию чувствительности, возбуждению сострадания, желанию делать добро и к воспитанию нравов. Сколько выражений, оскорбляющих слух, на этих невинных устах! Необходимо устроить для них детский театр, который бы принадлежал исключительно им».[66]
В этом отношении философ имел шансы быть услышанным. Екатерина тем более была расположена разделять его чувства, что сама испытала их. Давая играть детям «Заиру» и «Блудного сына», она находила, что любовь занимает в этих пьесах слишком много места, и обратилась даже к Вольтеру, чтобы заполучить от него такой детский театр, о каком говорит Дидро – пьесы, где молодой ум нашел бы себе пищу, не получая преждевременно опасных впечатлений. Она предлагала приспособить для этой цели классические произведения французской сцены. Но великий писатель отказался: он нашел, что на этот раз с него требовали слишком многого. Обратиться к Дидро с подобной просьбой не было рискованно. «Чего не сделал Вольтер, и что он сделал бы лучше моего, я сделаю, – писал он. – Я слишком счастлив, что могу помочь, хотя бы пустяком, двум самым большим и прекрасным учреждениям, какие себе можно представать...» И тотчас же он набросал сценарий переделки «Ученых женщин...». Пусть место Анриетты займет одна из воспитанниц вашего института; пусть у нее найдутся две-три очень смешных подруги. Вместо Вадиуса и Триссотена ввести двух или трех молодых людей, тоже очень смешных; противопоставить им отца заботливого, но слабого; любовника, очень порядочного и хорошо воспитанного человека. Тут же горничная очень веселая и находчивая, которая присоединяется к отцу, защищая воспитанницу и ее поведение. Устранить глупых любовников, дать предпочтение порядочному молодому человеку... и т. д.
IV
Все это было прекрасно, но не много подвигало вперед дела философа и самого Дидро. Без сомнения он был очень доволен – и высказывал это – своим пребыванием в Петербурге и своей императрицей. Потому что она принадлежала теперь ему, он чуть-чуть не верил, что открыл ее. Он описывал и объяснял ее Фальконе! Визиты во дворец тоже занимали его чрезвычайно, тем более что доставляли ему возможность встреч, может быть, еще более интересных, чем продолжительные беседы с глазу на глаз с императрицей. В шестьдесят лет, – в Петербурге, как в Париже – Дидро оставался тем же человеком, которому однажды, выходя с ним с пирушки, граф Монморен сказал: «Сознайся, Дидро, что ты неверующий только потому, что развратник»; и который ответил: «А вы как думали, что это я так себе, спроста?» Уходя от императрицы, он с удовольствием останавливался в ее приемной и проораторствовав три часа, находил еще, что сказать Анастасии Соколовой, хорошенькой камеристке; видавшей Париж и помнившей его. В то время она была любимой горничной Екатерины, прежде чем сделаться ее другом и первой наперсницей под фамилией госпожи Рибас. Дидро находил возможность ловить ее между двух дверей и «целовать в шею и ушко».[67] Екатерина тоже была довольна иметь возле себя этот второй «котел», но, в противоположность Григорию Орлову, «вариаций и всегда переполненный идеями и ощущениями». Она не намеревалась употребить его для своей политической кухни, ни для внутренней, ни для внешней: у нее для того был собственный котелок, куда она клала только припасы по личному выбору. Но уже самый вид Дидро веселил ее и составлял приятное развлечение. Однако это развлечение, продолжавшееся в марте месяце 1774 г. уже пять месяцев безо всякой определенной цели, не могло тянуться без конца. Даже нашлась причина, быстро прекратившая его. Екатерина и ее философ были не одни в Петербурге. Опасения Фальконе оправдались. Уже в декабре 1773 г. Гримм писал: «Он (Дидро) не победил здесь никого, кроме императрицы. За последнюю я не боялся; но не у всех такая голова, как у этой великой женщины, и не всякий привык, как она, к жанру и странностям». Уже первое появление при дворе философа в черном костюме, которого он и не подумал заменить другим, произвело неприятное впечатление. Несколькими годами раньше, в Париже, на вопрос графа де Брольи, не носит ли он траур по России, он отвечал: «Если б мне вздумалось носить траур по какой-нибудь нации, то не пришлось бы искать так далеко». В Петербурге он не находил удачных ответов. «Мои мысли замерзают при шестидесяти градусах мороза», говорил он. Вольтер уже раньше его заметил это странное явление и писал императрице: «Лишь только вы передвинете Россию к 30 градусам, вместо 60, я буду просить позволения окончить там свою жизнь». Дидро переменил свой костюм на великолепный, расшитый золотом, который прислала ему Екатерина: но это не улучшило положения дел.
Не знаем, насколько верен рассказ Тибо о маленьком заговоре, составленном придворными против философа и будто бы побудившем его просить окончательной отставки. Ему сказали, что один местный ученый предлагает вступить с ним в диспут при полном собрании двора, чтобы доказать бытие Бога. В назначенный час собрались, и Дидро увидал перед собой незнакомого человека, который без дальнейших предисловий сказал ему: