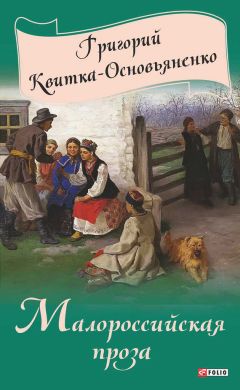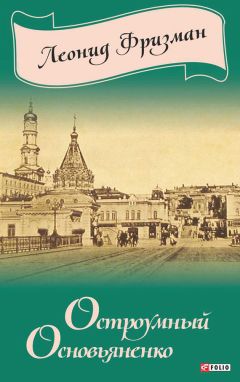— Я и сам не знаю, сколько мне угодно, а отвесь, голубчик, сколько нужно на две персоны для вареников! — сказал я, желая полакомить нашею земельскою пищею верного моего Кузьму.
Купец был так вежлив, что предоставлял мне на волю взять, сколько хочу, и я приказал подать… Что же?.. и теперь смех берет, как вспомню!.. Вообразите, что в этом хитром городе сыр совсем не то, что у нас. Это кусок — просто — мыла! будь я бестия, если лгу! мыло, голое мыло — и по зрению, и по вкусу, и по обонянию, и по всем чувствам. Пересмеявшись во внутренности своей, решился взять кусок, чтобы дать и Кузьме понятие о петербургском сыре. Принес к нему, показываю и говорю:
— Кузьма! а что это?..
Он, не думавши, тотчас и решил:
— Мыло. А на что оно нам?
— На вареники, — говорю я аллегорично.
Он стоял долго, выпуча на меня глаза, потом сказал:
— А давно мы стали собаками, чтоб нам есть мыло?
— Отведай! — говорю я. Он отведал.
— А что? — говорю я.
— Чорт знает что: ни мыло, ни сало! — сказал он решительно. Долго мы, советовавшись, не придумали, как с этим сыром делать вареники. После того уже узнали, что в Петербурге, где все идет деликатно и манерно, наш настоящий сыр называется «творог». Но уже нас с Кузьмою не поддели, и мы решились оставаться без вареников. То-то чужая сторона!
Пожалуйте же! я, кажется, совсем отбился от материи; обращаюсь к своей цели. С этими приятелями и другими, подружившимися со мною, я проводил время преприятно. Каждый раз они водили меня с собою в театры, и там я так привык, как будто дома. Не боялся вовсе чертей, в адском пламени горевших; не любовался и не прельщался актерщицами; я узнал, что это не натура, а так, вдают только. Черти такие же люди, как и я; пламя их не жгущее; красота актерщиц не истинная, а так, красками подведено для нравственности мужчинам. Все это узнавши, я до того в театрах бывал бодр и смел, что, заложив руки в боковые карманы моего необходимого платья, прохаживался себе бодро и негляже ни на кого.
Объявили, что будет театр «Коза» и какая-то «Рара». Дай посмотреть и этого дива! Приятели меня привели. Правда, козы не было, но зато и штука была преотменная. Верите ли! как запоют актерщицы, так даже в ушах звенит. Прелесть! А тут выскочит к нам актерщик, да и станет подлаживать под их; да как стакаются, и он пойдет басовым голосом, а тут музыка режет свое; так я вам скажу: такая гармония на душе и по всем чувствам разольется, что невольно станет клонить ко сну. Невольно чмокаешь и губы утираешь. Да мало ли чудес видел я в этом, подлинно комедном доме, что должно называть «театр»! Вдруг сад; не успеешь налюбоваться, глазом мигнуть, уже и дом, а там город, пустыня, море… как это делается — теперь, хоть сейчас убейте меня, не объясню вам, потому что не понимаю ничего!.. А балеты? вот высокая прелесть! Это, изволите видеть, танцуя действуют, а действуя танцуют… Но и танцы ничего; а вот плясуньи, танцорки, так это, будь я бестия! сойти с ума. Молодо, ужасно красиво, да как высоко одето, да как живо, вертляво!.. а как скакнет, закружится, поднимет ножку."- высокая, самая высокая прелесть!.. канальи, да и полно! Через силу оставишь театр, придешь домой плясуньи в глазах; ляжешь — плясуньи тут, и продумаешь всю ночь о высоких прелестях бесподобных плясуньев, которых у нас, в Короле, и не говори когда-либо увидеть! куда!
В один театр, только что мои милые со всем усердием расплясались в лесу, я слушаю, восхищаюсь, и был готов вздремнуть; везде все тихо, будто и все уснуло; вдруг, сзади нас, раздался громкий, резкий голос: "Панычу, гов!" Все засуетилось, всполошилось: многие вскочили, актерщицы замолкли, музыка смешалась… слышен шум; кого-то тискают, удерживают, а он барахтается и кричит: "Та гетьте, пустите, я за панычем!" Все смотрят туда, и я за ними… глядь! ан это бедный мой Кузьма попался в истязание!..
Жалость меня взяла; я бросился на выручку моего верного Кузьмы, а его уже подхватили под руки и ведут, не слушая моих уверений, что это мой Кузьма… Куда! так и исчез в глазах моих!
Уж мне было не до театров и не до актерщиц; пропадай все, жаль одного Кузьмы. Мы с ним двое заезжие были, теперь я один остался, а его, может, запроторят на край света. В таких чувствительных мыслях отправился я домой… глядь! в квартире сидит у меня Иван Афанасьевич, мой поверенный Горб-Маявецкий…
Вот как это случилось, что он меня неумышленно нашел.
Приехавши в этот Петербург, он прямо к Ивану Ивановичу… меня нет и не было… Принялись они разыскивать; стояло в записке, что я въехал, но где остановился, никто из начальствующих не заботился. Меня и без того все знали. Горб-Маявецкий подумал было, что я и совсем пропал, и недоумевал, как без меня начинать дело, потому что некому было отхватывать: "к сему прошению"… Как вдруг попадается ему книжечка, да не такая, чтоб книжечка настоящая, а так, чепуха. Изволите видеть: Петербург хитрый город, и люди в нем живут на все руки. Некоторые и примутся за особый промысел. Дело не дело, правда не правда, слышал или выдумал, да все это в строку: напишет, отпечатает в книжечку, да и рассылает по городу и по всему свету. Состряпавши одну, принимается за другую, и так через весь год; а за все это денежки и лупит. Как же надобно, чтоб застоя не было, так он в своих книжечках дует, что зря. Там и любовь всех сортов, и всякая механика, и про пирожное, и про актерщиц, и про сапоги… одним словом, про все, что этому проказнику на мысль придет. Как же не всегда у человека мысли бывают, так он и пустится по улицам; что подметит, а что, ходя, выдумает, да тотчас и в список, что при себе так и носит.
Хитрый город!
В один день этот публичный балагур и прийди к реке; увидя меня и познакомься со мною; вот как я рассказывал, да все мои речи, что я тогда, сидя над рекою Невою, ему по дружбе говорил, умные и так, расхожие, все в список, за пазуху, да и домой; а там в свою книжечку, да в печать, хватавши, правду сказать, многое и на душу ради смеха, да и ославь меня по всей подсолнечной. Пошли читать все.
Эта книжечка, какова ни есть, попадись в руки моему Горбу-Маявецкому. Прочитал и узнал меня живьем. Принялся отыскивать; отыскал петербургский Лондон, а меня нет, я любуюсь актерщицами. Он Кузьму за мною: призови, дескать, его ко мне. Кузьма отыскал театр, да и вошел в него. Как же уже последний театр был, и на исходе, то никто его и не остановил. Войдя, увидел кучу народу, а в лесу барышни гуляют; он и подумал, что и я там где с ними загулялся. Вот и стал по-своему вызывать.
Не дешево достался ему этот выход! Его потащили и заперли в преисподнюю, пока до завтра, а тогда в расспрос. Пошел Кузьма городить околесную! Он говорил дело, да его не понимали. Он правильно отвечал, что приехал из Хорола с панычем с Трофимом с Мироновичем с Халнвским: что я ему нужен был, и потому он звал меня. Ему дали памятное наставление, чтобы он впредь иначе отыскивал своего господина; а Кузьма, этим не удовлетворившись, начал спорить и доказывать, что когда паныч ему нужен, так он везде пойдет и будет кричать, отыскивая его. Чтобы убедить его, что он ошибается, ему поручили чистить улицы, и вечером, не накормивши, прислали его ко мне. Но досталось же и притеснителям его. Куда! Кузьма целый вечер ругательски их ругал и, лежа в своей конурке, все вертел шиши и посылал в ту сторону, где его так поучили. И поделом им! Так напасть на безвинного человека и обругать его!
Радость наша при свидании с Иваном Афанасьевичем была неописанна. Он радовался тому, что отыскал меня; а я радовался, что нашел его. Он боялся за меня, что меня, неопытного, не знающего света, одного в чужих людях, оберут, обманут. (NB. Не на таковского напали! только и обобрали в Туле, да в театре, за лишние билетики, да за сапоги, что я купил. себе щегольские, смазные, и подошвы были не пришиты, а приклеены; обобрали еще меня разные парикмахеры, цырюльники и проч.; издержал многонько денег для вспоможения бедным; но это в счет нейдет. Вот только и лишнего расхода. Куда меня обмануть кому-либо!), я же обрадовался, нашедши Ивана Афанасьевича, потому что у меня не осталось вовсе денег и на завтра; не только обедать, но и в театры итти не с чем было.
Спасибо ему: он рассчитался за меня с хозяином Лондона, и хотя много шумел, что лишнего много было на меня приписано, чего я и не употреблял вовсе, но должен был заплатить, и вывез меня в дом к Ивану Ивановичу, приятелю своему.
Прошу же покорно отыскать дом Ивана Ивановича, когда он был очень далеко и в таком глухом месте, что и доступиться к нему не можно было! Но домик очень порядочный, комнат шесть, и в нашем Короле он был бы из первых.
Ивану Афанасьевичу ничто не нравилось в моем одеянии и во всей наружности: вследствие чего обшит я был с головы до ног снова. Фу ты, канальство! что за франт вышел из меня! Сапоги со скрипом, фалды у кафтана так и болтаются, в кармане платок белый, чистенький на каждый день, с красными краешками. Все было мило и щегольски. Я не мог налюбоваться собою. Давал мне деньги и на радости жизни, например, в театры, на апельсины и другие лакомства. Сам же он занялся по моему делу, а я обязан был раз пять в день подписывать ненавистное мне "к сему прошению". Один раз повез меня к судьям, у коих было мое дело, без надобности, а так, для блезиру, напоказ. Каждый из судей заговаривал со мною меланхолично, и при мне говорили, что я жалкий молодой человек, без образования. Не знаю, что они разумели; но я был очень хорошо образован: платье все по последней моде, волосы на голове завиты, взъерошены, распудрены… Какого же образования? Больше я к ним не пожелал ездить, и Иван Афанасьевич не находил в том надобности.