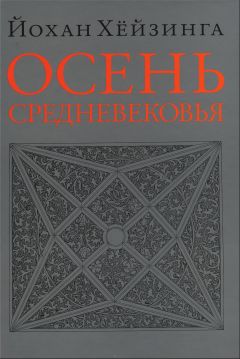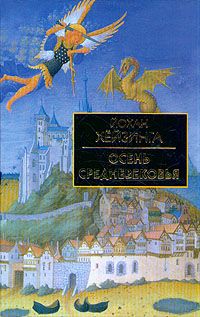Chastel d’amours был игрой вопросов и ответов, восходивших к персонажам Романа о розе:
Du chastel d’Amours vous demant:
Dites le premier fondement!
– Amer loyaument.
Or me nommez le mestre mur
Qui joli le font, fort et seur!
– Celer sagement.
Dites moy qui sont li crenel,
Les fenestres et li carrel!
– Regart atraiant.
Amis, nommez moy le portier!
– Dangier mauparlant.
Qui est la clef qui le puet deffermer?
– Prier courtoisement557.
Любви чтó Замка, мне б спросить,
Основа и живая нить?
– Душой любить.
Из стен – которая главней,
А он – тем краше и прочней?
– Умно таить.
Чтó башни там во все концы,
Бойницы, квадры и зубцы?
– Очами обольстить.
И кто же охраняет вход?
– Лишь Опасение: мол, станут говорить.
Но что за ключ врата мне отомкнет?
– Любезнейше молить.
Со времен трубадуров значительное место в придворных беседах занимает казуистика любви. Это было как бы облагораживающим возвышением любопытства и пересудов до уровня литературной формы. Помимо «beaulx livres, dits, ballades» [«светских книг, сказаний, баллад»], трапезе при дворе Людовика Орлеанского придают блеск «demandes gracieuses» [«изящные вопросы»]558. Разрешить их должен прежде всего поэт. Компания дам и кавалеров приходит к Гийому дё Машо; следует ряд «partures d’amours et de ses aventures»559 [«случаев с разлуками и приключениями любовников»]. В своем Jugement d’amour [Судилище любви] Машо отстаивает мнение, что дама, у которой умер ее возлюбленный, менее заслуживает сострадания, чем та, возлюбленный которой был ей неверен. Каждый казус такого рода подвергается обсуждению в соответствии со строгими нормами. – «Beau sire, чего бы вы более пожелали: чтобы люди дурно говорили о вашей возлюбленной, а вы знали бы, что она вам верна, – или же чтобы люди говорили о ней хорошее, а вы знали бы за нею дурное?» – И ответ в согласии с высокими формальными понятиями нравственности и неукоснительным долгом отстаивать честь своей возлюбленной перед окружающими не мог звучать иначе, нежели: «Dame, j’aroie plus chier que j’en oïsse bien dire et y trouvasse mal» [«Мадам, лучше бы для меня слышать, что о ней говорят хорошее, и зреть дурное»]. – Если дама, которой пренебрегает ее первый возлюбленный, заводит себе второго, более преданного, – должна ли она считаться неверной? Дозволяется ли рыцарю, утратившему всякую надежду свидеться с дамой, ибо она содержится взаперти ревнивым супругом, в конце концов обратить свои помыслы на поиски новой любви? Если рыцарь, оставив свою возлюбленную, устремляется к даме более знатной, а затем, отвергнутый ею, молит о милости ту, которую он любил прежде, может ли она простить его, не рискуя нанести урон своей чести?560 От подобной казуистики лишь один шаг до того, чтобы обсуждение любовных вопросов приняло форму судебного разбирательства, как в Arrestz d’amour [Приговорах любви] Марциала Оверньского.
Все эти формы и обычаи проявления любви мы знаем только по их отражению в литературе. Но они были в ходу и в действительной жизни. Кодекс придворных понятий, правил и форм не служил исключительно для того, чтобы с его помощью заниматься версификацией, – он был неотъемлемой частью аристократического образа жизни и, уж во всяком случае, светской беседы. Нелегко, однако, разглядеть жизнь того времени сквозь покровы поэзии. Ибо даже там, где действительная любовь описывается столь правдиво, сколь это возможно, описание всегда остается в сфере представлений, обусловленных определенными идеалами, с их техническим арсеналом ходячих представлений о любви; остается стилизацией литературного эпизода. Таково весьма пространное повествование о поэтичной любви между престарелым поэтом Гийомом дё Машо и Марианной561 XIV столетия, Le livre du Voir-Dit562 (то есть Подлинная история). Поэту скорее всего было лет шестьдесят, когда одна знатная молодая особа из Шампани, Перонелла д’Армантьер563, будучи лет восемнадцати от роду, послала ему в 1362 г. свой первый рондель, в котором предлагала сердце лично ей незнакомому прославленному поэту и просила его вступить с нею в любовную переписку. Послание воспламеняет бедного больного поэта, ослепшего на один глаз и страдающего подагрой. Он отвечает на ее рондель, начинается обмен посланиями и стихами. Перонелла гордится своей литературной связью, с самого начала она не делает из этого никакой тайны. Она хочет, чтобы он правдиво описал их любовь в своей книге, включив туда и стихи, и письма. Он с радостью берется за это; «je feray, à vostre gloire et loenge, chose dont il sera bon mémoire»564. «Et, mon très-doux cuer, – пишет он ей, – vous estes courrecié de ce que nous avons si tart commencié? (Как могла она раньше?) Par Dieu aussi suis-je (куда как с большими основаниями); mais ves-cy le remède: menons si bonne vie que nous porrons, en lieu et en temps, que nous recompensons le temps que nous avons perdu; et qu’on parle de nos amours jusques à cent ans cy après, en tout bien et en toute honneur; car s’il y avoit mal, vous le celeriés à Dieu, se vous poviés»565 [«во славу и в похвалу Вам свершу я то, что останется на добрую память… И Вы, сладчайшее мое сердце, <…> укоряете себя, что начали мы столь поздно? <…> Клянусь Богом, я тоже <…>; но вот верное средство: устроим нашу жизнь столь хорошо, сколь только возможно, в месте и времени, и наверстаем потерянное, дабы и через сотню лет о любви нашей говорили хорошо и с почтением, ведь имейся в ней что дурное, Вы утаили бы ее и от самого Господа, если б сумели»].
О вещах, которые тогда вполне уживались с почтительною любовью, мы узнаём из рассказа Гийома дё Машо, уснащенного письмами и стихами. В ответ на свою просьбу он получает ее живописный портрет, которому поклоняется, как земному божеству. Перебирая все свои недостатки, в страхе ожидает он предстоящей им встречи, и счастье его безгранично, когда оказывается, что его внешность нисколько не пугает его юную возлюбленную. Под сенью вишни она засыпает – или притворяется, что засыпает – у него на коленях. Она одаряет его всё большими милостями. Паломничество в Сен-Дени и ярмарка в Ланди дают им возможность провести несколько дней вместе. В полдень паломники чувствуют смертельную усталость из-за жары (средина июля) и окружающих их со всех сторон скопищ народу. В переполненном городе они находят пристанище у одного горожанина, который предоставляет им комнату с двумя постелями. В затененной для полуденного отдыха спальне на одну из постелей ложится свояченица Перонеллы, на другую – она сама со своей камеристкой. Между собою и ею велит она лечь нерешительному поэту, который, из страха причинить ей хоть малейшее беспокойство, неподвижен, как мертвый; проснувшись, она велит ему поцеловать себя. К концу путешествия, видя, что он охвачен печалью, она позволяет ему прийти к ней ее разбудить перед тем, как расстаться. И хотя рассказ поэта и здесь пестрит словами onneur [честь] и onneste [честный], из его достаточно непринужденного повествования следует, что вряд ли осталось что-либо такое, в чем она могла бы еще ему отказать. Она вручает поэту золотой ключ своей чести, свое сокровище, дабы он тщательно хранил его, однако это вполне может быть понято как его долг охранять от людской хулы ее доброе имя 566.
Вкусить счастья еще раз поэту было не суждено, и из-за недостатка дальнейших приключений вторую половину своей книги он заполняет бесконечными экскурсами в мифологию. В конце концов Перонелла сообщает ему, что их связь должна прекратиться, – видимо, из-за предстоящего ей замужества. Но поэт решает навсегда сохранить любовь к ней и свято почитать ее, а после их смерти душа его умолит Господа и в небесной славе оставить за ней имя Toute-Belle567 [Всепрекраснейшая].
И по части обычаев, и в отношении чувств книга Le Voir-Dit является для нас источником более щедрым, чем большинство произведений любовной литературы того времени. Прежде всего обращает на себя внимание чрезвычайная свобода, которой могла располагать юная девушка, не опасаясь вызвать недовольство со стороны окружающих. Затем – наивная беспечность, с которой всё, вплоть до интимнейших сцен, происходит в присутствии посторонних, будь то свояченица, камеристка или секретарь. Во время свидания под вишней последний пускается на прелестную уловку: когда Перонелла засыпает, он прикрывает ее уста зеленым листом, говоря поэту, что тот может поцеловать этот лист. Когда же он наконец осмеливается это сделать, ловкий секретарь тотчас выдергивает лист, и Машо целует ее прямо в губы568. Еще примечательнее соединение любовных и религиозных обязанностей. Тот факт, что Машо, будучи каноником собора в Реймсе, принадлежал к духовному сословию, не следует принимать слишком всерьез. Духовенство низшего ранга – а такого посвящения было вполне достаточно, чтобы стать каноником, – не обязано было давать обет безбрачия. Петрарка также был каноником. Избрание паломничества для встречи друг с другом тоже не содержит в себе ничего необычного. Паломничества были весьма в ходу для осуществления любовных приключений. При этом паломничество совершалось с полной серьезностью, «très dévotement»569 [«весьма благочестиво»]. Ранее они встречаются во время мессы, и он сидит позади нее: