Сколько еще невыявленных подвигов, безвестных героев...
Об одном из них я не могу не рассказать.
Молодежную подпольно-диверсионную группу в Умани возглавлял двадцатилетний комсомолец Андрей Петрович Романщак. Он, только что получивший диплом физико-математического факультета в Уманском учительском институте, вступил добровольцем в истребительный батальон и к моменту окружения города стал командиром взвода. Вместе с отходившими войсками 6-й и 12-й армий добровольцы оказались у Зеленой брамы. Под Копенковатым Андрей Романщак был ранен, его спрятали колхозники, выходили уже в оккупации. Из Копенковатого он отправился в находящееся неподалеку родное село, где учительствовала его мать.
Забрав сестру Надю, Андрей пришел в оккупированную Умань и поселился там же, где жил в студенчестве, у учительницы М. К. Береговенко.
В материалах Черкасского облпартархива началом боевой деятельности группы значится сентябрь сорок первого. В первую десятку вошли, кроме брата и сестры Романща- ков, еще местные студенты и вчерашние школьники.
Как ни скупы сохранившиеся материалы, как ни скудны воспоминания очевидцев, из них вырисовывается фигура молодого энтузиаста с недюжинными способностями организатора и вожака. Это хорошо чувствовали товарищи, называвшие его не иначе как «пламенный Андрей». Он вскоре отправился в опасную поездку по окрестным селам на поиски своих товарищей по школе, по пионерским слетам, по студенческой поре. Создавались малочисленные по составу, но боеспособные группы. Они знали, что делать, овладевали диверсионной наукой, собирали оружие на полях недавних боев, содействовали побегам военнопленных, прятали их в лесах и у местных жителей.
Уже в начале 1942 года враг ощутил удары неведомых мстителей, особенно на железной дороге. Рухнул под откос воинский эшелон, было уничтожено несколько паровозов.
«Пламенный Андрей» с товарищами сумели вовлечь в свою группу сотрудников гебитскомиссариата — немца- фольксдойча и поляка. Это была большая удача, сопряженная со смертельной опасностью. К счастью, эти два сотрудника группы Андрея оказались весьма полезными и честными людьми. Но, видимо, удача привела к ослаблению осторожности, и новая попытка проникнуть в самое логово противника закончилась трагически.
Романщак решил привлечь к подпольной работе Валентину Усенко, бывшую учительницу немецкого, поступившую на службу в СД переводчицей. Это была роковая ошибка: Валентина Усенко вместе с фольксдойчем Иоганом Вернером навели фашистов на след Андрея, он был захвачен в лесу, где уже долгое время базировался центр подпольной организации.
Польский товарищ, проникший в тюрьму в качестве переводчика, сумел передать Андрею лаконичную, всего из трех слов, записку — «друзья не спят», передать ему бумагу и карандаш. Вот что написал товарищам Андрей:
«...Я променял бы всю свою жизнь на один день свободы, но этот день стал бы для разных вернеров и усенко и другой погани адом. Не горько умереть за идею, за которую погибли миллионы, но горько, что жил мало, мало сделал. Мне уже 16 декабря (речь идет о годе 1942-м.— Е. Д.) будет только двадцать один...»
Подпольщики предпринимали героические, просто невероятные усилия, чтобы спасти Андрея. Об этом рассказала его сестра Надежда Петровна, и поныне живущая в Умани. Подпольщик, член группы с первых ее шагов, недавний школьник Василий Демидюк, работавший в ремонтных мастерских, сумел даже проникнуть в кабину грузовика, который палачи приказали пригнать на рассвете к воротам тюрьмы. Увы, героя увез к месту казни другой грузовик, спасение не удалось...
«Пламенный Андрей» не дожил до двадцати одного года...
Через год в бою, окруженный карателями, дождавшись, когда они подойдут к нему вплотную, взорвал их и себя гранатой Вася Демидюк. О нем в Умани сложена и поется песня...
Записки, пересланные «пламенным Андреем» из тюрьмы, а также его стихи сохранились и находятся в Черкасском облпартархиве. Это не только человеческие документы, но и свидетельство поэтической одаренности. Я осмеливаюсь привести его строки в своем переводе с украинского. Вот стихи, посвященные предмету первого увлечения:
Любви не время — длится бой,
Людской захлебываясь кровью.
Утихнет бой, придет любовь,
Пусть ей победа путь откроет.
Я исподволь, постепенно собираю и перевожу стихи, написанные революционерами в последний день жизни или в ночь перед казнью. У меня уже есть «Завещание» американца Джо Хилла, «Последнее прощание» филиппинца Хосе Рисаля, я постараюсь заново перевести письма из Моабитской тюрьмы друга своей юности Мусы Джалиля, стихи немецких антифашистов из «Красной капеллы». Если у меня хватит сил создать такую книгу завещаний, я непременно включу в нее и перевод стихов «пламенного Андрея», украинского комсомольца Романщака, написанных в уманской тюрьме перед расстрелом:
Не устрашила смерть сама,
Когда уставилась мне в очи.
Вы думаете, что зима
И это прозябанье волчье
Меня сломили? Никогда!
Зима свирепствует напрасно,
С весной не справится беда,
Меня и смерть согнуть не властна...
Наивные вопросы и жестокие ответы
В Западном Берлине проводилась дискуссия, организованная Евангелической академией: «Восьмое мая — освобождение или капитуляция?»
Пригласили меня как автора книги «Автографы победы» — о штурме Берлина и о надписях, сделанных советскими воинами на стенах и колоннах рейхстага.
Я выехал через столицу ГДР в Западный Берлин, был радушно принят и поселен в мансарде Евангелической академии в районе Ваннзе, знакомом мне по весне 1945 года.
Я понимал, что для немецких участников беседы эта дискуссия — нелегкое испытание, да и сам волновался здорово, не потому, что боялся каверзных вопросов — я здесь, как раз в этом квартале, уже был, правда, много лет назад, освистан пулями, но просто по ситуации: такая вот дискуссия в Западном Берлине. Да еще и в религиозном учреждении. Непривычно.
В зале Евангелической академии собралось много народу — старшие и совсем молодые, примерно половина на половину. В перерыве ко мне подошел бледный молодой человек с волосами, подстриженными, как у российского разночинца, в небрежном джинсовом костюмчике, с криво повязанным, мятым шейным платком. Представился:
— Фолькер фон Тёрне, генеральный секретарь организации «Акция искупления немецкой вины», поэт...
Движение, которое представляет фон Тёрне, с позиций гуманизма резко осуждает фашизм, его участники считают, что каждый немец и молитвой, и покаянием, и делами должен отвечать перед всем миром, а прежде всего перед народами, пострадавшими от нападения гитлеровцев, и тем самым искупить хоть часть их вины. Сам Фолькер — сын генерала войск СС, палача, позорно закончившего свою жизнь от пули не то бельгийских, не то голландских патриотов (мне почему-то неловко было уточнять). Ища искупления вины отца, фон Тёрне не раз бывал у нас в стране, в других странах, подвергавшихся оккупации в пору второй мировой войны. Он возлагал цветы к памятнику на Мамаевом кургане над Волгой, участвовал в своеобразных субботниках на месте концлагерей Освенцим, Маутхаузен...
Позже я встречался с этим молодым человеком, носителем пылающей совести, и в Берлине, и в Москве, и на международных конференциях, связанных с проблемами мира.
Особенно запомнилась одна из наших последних бесед.
Я спросил фон Тёрне, слышал ли он об Уманской яме и входит ли этот концлагерь в число объектов, опекаемых «Акцией искупления немецкой вины».
Фон Тёрне, всегда казавшийся мне бледным, еще более побледнел.
— Само собой разумеется. Уманская яма упоминается в некоторых книгах, вышедших в эти годы. Немцы, может быть, во время войны и не слышали о ней, но теперь знают это ужасное место. В плане нашей организации — съездить в Умань, найти место концлагеря, посадить цветы в эту многострадальную землю.
Меня давно, со времен трагического августа сорок первого, мучил один вопрос. Я никак не мог понять, почему у аккуратных и педантичных немцев в августе 1941 года царил такой хаос и беспорядок в лагере для советских военнопленных... Ведь вторая мировая война шла уже без малого два года, была захвачена чуть ли не вся Европа. Неужели не накопился опыт, неужели не были еще до нападения на нас отданы какие-то распоряжения ну хотя бы хозяйственного порядка, не установлены для содержания пленных нормы воды и пищи, пусть самые голодные и подлые?
Я понимал, что вопрос мой носит несколько демагогический и, уж во всяком случае, риторический характер. Я до конца своих дней благодарен неразберихе, царившей в лагере: будь у них порядок, за недолгие дни моего пребывания там распознали бы, что я политработник, и, безусловно, расстреляли.
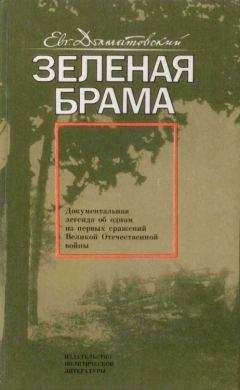



![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
