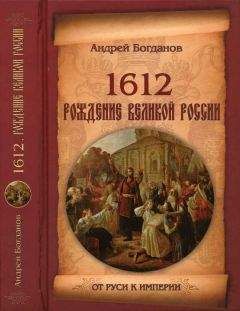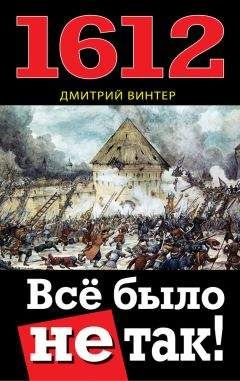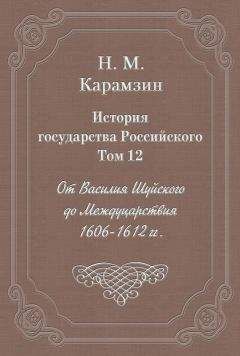Так писали о московских событиях казанцы вятичам в начале января 1611 г., объясняя, почему решили не служить Владиславу. Вскоре Вятка присоединилась к Казани, отписав о том в Пермь{95}. Разумеется, даже в пылу спора речь шла не о прямой присяге королю, а о предложении русским послам положиться в переговорах во всем на королевскую волю, а защитникам Смоленска сдать город Сигизмунду. Когда в начале декабря бояре принесли Гермогену проект таких грамот, патриарх наотрез отказался их подписывать, требуя крещения королевича и вывода иноземных войск из Москвы. «А будет такие грамоты писать, — заявил Гермоген, — что всем вам положиться на королевскую волю и послам о том королю бить челом и класться на его волю — и то ведомое стало дело, что нам целовать крест самому королю, а не королевичу. И я таких грамот не только что мою руку приложить — и вам не благословляю писать, но проклинаю, кто такие грамоты учнет писать!»
Так рассказывает «Новый летописец». Так же восприняли боярские грамоты под Смоленском, когда они пришли туда без подписи Гермогена. Смоляне попросту обещали пристрелить того, кто осмелится привозить подобные грамоты, а послы объяснили, что на Руси издавна важнейшие дела не решались без высшего духовенства, место же патриархов — «с государями рядом, так у нас честны патриархи, а до них были митрополиты. Теперь мы стали безгосударны — и патриарх у нас человек начальный, без патриарха теперь о таком великом деле советовать непригоже. Как мы на Москве были, то без патриархова ведома никакого дела бояре не делывали, обо всем с ним советовались, и отпускал нас патриарх вместе с боярами…
— Потому нам теперь без патриарховых грамот по одним боярским нельзя делать, — объясняли послы, вспомнив вдруг о призывах Гермогена обратиться ко «всей земле».
— Надобно теперь делать по общему совету всех людей, не одним боярам, всем государь надобен, и дело нынешнее общее всех людей, такого дела у нас на Москве не бывало!
А митрополит Филарет усугубил картину, объявив, что кого патриарх «свяжет словом — того не только царь, сам Бог не разрешит!»{96}
Слово Гермогена обрело во второй половине декабря 1610 г. — начале 1611 г. особое звучание, поскольку Россия осталась безгосударна: Лжедмитрий II был убит, а Владислав, которому целовали крест в Москве, еще не «дан» отцом на царство. Все стали писать, что патриарх распространяет воззвания, но никто ни одного из его воззваний не привел и не мог привести, потому что их не было. Да и о чем Гермогену было писать? Он все сказал. Его позиция была неизменной. Федор Андронов и Михайло Салтыков доносили королю из Москвы, что «патриарх призывает к себе всяких людей и говорит о том: буде королевич не крестится в крестьянскую веру и не выйдут из Московской земли все литовские люди — и королевич нам не государь!»
О том, что от имени Гермогена распространялись патриотические воззвания, около 25 декабря 1610 г. сообщал и московский комендант Александр Гонсевский, также не прибавивший ничего нового относительно позиции патриарха. Характерно, что доносом Андронова и Салтыкова королю воспользовались русские, перешедшие было на сторону поляков и оказавшиеся в лагере под Смоленском. Описывая свое полное разорение, погибель и пленение семей, предупреждая, что готовится страшное опустошение и покорение России, страдальцы упоминают, что о своей позиции «патриарх и в грамотах своих от себя писал во многие города», — но сами знают об этих грамотах только со слов врагов{97}!
Позиция русских под Смоленском, призывавших все города восстать «за православную крестьянскую веру, покамест еще свободны, а не в рабстве и в плен не разведены», и позиция Гермогена, настаивавшего на соблюдении поляками договора, пересекаются лишь частично. Гораздо больше общего со смоленской грамотой в грамоте москвичей, писавших о наступлении конечной погибели и призывавших «не мнить пощаженым быть»: «нынеча мы сами видим вере крестьянской пременение в латынство и церквам Божиим разоренье».
«Предателей крестьянских», писали москвичи, в столице немного, «а у нас, православных крестьян», помимо Божьей милости есть «святейший Ермоген патриарх прям яко сам пастырь, душу свою за веру крестьянскую полагает несуменно». Но ни о каких призывах Гермогена в грамоте не сообщается, а единство «крестьян» выглядит сомнительно: они-де все патриарху последуют, «лишь неявственно стоят»; столь неявственно, что Москве нужна военная помощь против «немногих людей предателей крестьянских!»{98}
Нижегородцы, действительно собиравшие ополчение, распространяя обе эти грамоты (от смоленских страдальцев и москвичей) по городам, утверждали, что их прислал 27 января патриарх Гермоген. Но они же писали предводителю восставших рязанцев старому бунтарю Прокофию Ляпунову, что их посланцам, побывавшим в Москве у патриарха, тот никакого «письма» не дал под смехотворным предлогом, «что де у него писати некому». Потому де он «приказывал… речью» — но хотя каждое слово Гермогена было драгоценно и слова даже менее видных людей цитировались с завидным постоянством, ни одного слова патриарха рязанцы от нижегородцев так и не узнали.
Ляпунов не растерялся и в том же духе показал в своей грамоте, что связан уже со многими ополчениями, и московским боярам о патриархе писал: «с тех мест патриарху учало быти повольнее и дворовых людей ему немногих отдали». Однако и Ляпунов не мог похвастаться весточкой от Гермогена, хотя и нагнал якобы страху на его притеснителей{99}.
Действительно, московские правители, по свидетельству князя И. А. Хворостина, тогда «возъяришася на архиереа» и велели разгонять идущих к нему за благословением. «Он же, пастырь наш, аки затворен бысть от входящих к нему, и страха ради мнози отрекошася к его благословению ходити». Но Гермоген не прекращал проповеди в полупустом соборе, утверждая все то же: если Владислав «не будет единогласен веры нашея — несть нам царь; но верен — да будет нам владыка и царь!»{100}
ЗАГАДКА ПАТРИАРШИХ ГРАМОТ
Ни о каких грамотах Гермогена близко знавший его Хворостинин не упоминает, а живая сцена из «Нового летописца» опровергает версию о существовании «патриотических воззваний» патриарха. Там говорится, что, видя со всех сторон собирающиеся на них ополчения, поляки и «московские изменники» стали требовать от Гермогена послать грамоту Ляпунову, «чтоб он к Москве не сбирался». Патриарх отказался, но пригрозил, что еще напишет Ляпунову, что если королевич крестится — благословляет ему служить, если же нет и литва из Москвы не выйдет — «и я их благословляю и разрешаю, кто крест целовал королевичу, идти под Московское государство и помереть всем за православную христианскую веру».
Услыхав такое, Салтыков заорал и кинулся на патриарха с ножом, но Гермоген «против ножа его не устрашился и рече ему великим гласом, осеняя крестным знамением: “Сие крестное знамение против твоего окаянного ножа. Да будь ты проклят в сем веке и будущем!”» — Однако даже в столь крайней ситуации надежды свои Гермоген возлагал не на восстание поборников веры, а на благоразумие правителей, ибо тут же «сказал тихим голосом боярину князь Федору Ивановичу Мстиславскому: “Твое есть начало, тебе за то добро пострадати за православную христианскую веру; если прельстишься на такую дьявольскую прелесть — и Бог преселит корень твой от земли живых”».
Нет сомнений, что Гермоген не боялся ни Михаила Салтыкова, ни какого иного человека, но, согласно тому же «Новому летописцу», патриарх отрицал, что писал поджигательные воззвания. Когда Первое ополчение набрало силу и засевшие в Кремле бояре всерьез испугались, они вновь пришли к патриарху и «Михайло Салтыков начал ему говорить: “Что де ты писал к ним, чтоб они шли под Москву — а ныне ты ж к ним напиши, чтоб они воротились вспять!”
Патриарх на сие ответил: “Я де к ним не писывал, а ныне к ним стану писать! Если ты, изменник Михайло Салтыков, с литовскими людьми из Москвы выйдешь вон — и я им не велю ходить к Москве. А будет вам сидеть в Москве — и я их всех благовловляю помереть за православную веру, что уж вижу поругание православной вере, и разорение святым Божиим церквам, и слышать латынского пения не могу!”»
Пение, поясняет летописец, доносилось из обращенной в походный костел палаты на старом дворе Бориса Годунова. Изменники-бояре, услыхав столь колоритную речь Гермогена, «позорили и лаяли его, и приставили к нему приставов, и не велели к нему никого пускать». Только раз, на Вербное воскресенье, патриарха «взяли из-за пристава и повелели ему действовати», но москвичи были уверены, что готовится какая-то каверза, и Гермоген остался один: «не пошел никто за вербою». Вскоре в городе начались бои.