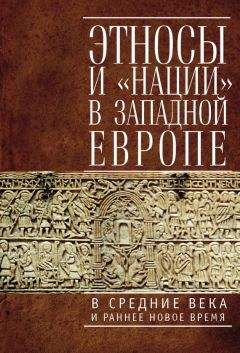Ознакомительная версия.
Паламарчук А.А.
II.VII. Поэтика идентичностей. Памфлетная война вокруг проекта испанского брака принца Карла (1623–1624 гг.)
Формирование «больших идентичностей», того, что Бенедикт Андерсон называл «воображаемые сообщества», то есть таких идентичностей, которые превосходили корпоративные или групповые и конструировали сообщества, и не могли быть воплощены в зримом образе непосредственно1 в обществах периода перехода от Средних веков к раннему Новому времени или, в терминологии Иммануила Валлерстайна, в обществах системного разрыва2, порождает целый ряд вопросов. В своей статье «Воображаемые сообщества: кто же их воображает?» Патра Чаттерджи совершенно справедливо указывает, что процесс старта «воображаемого сообщества нации» не может быть одномоментным для всех представителей большой группы, и все равно должен начаться с некоей малой группы, которая сама по себе «воображаемым сообществом» не является, но идентифицирует себя с ним3.
Для обществ, к которым обращается Чаттерджи, такой стартовой точкой являются группы интеллектуалов, получивших западное образование, и совершающих выбор между следованием западной традиции или отрицанием ее в процессе модернизации, то есть в том, что Клиффорд Гирц определял как «эпохализм» и «эссенциализм»4. Однако подобный подход, относящийся к выбору программы формирования идентичности по схеме отношения к «другому» (Западу) в условиях необходимости модернизации в духе этого «другого», не может быть применен к обществам периода XVI–XVII вв., у которых просто не было «своего Запада», а необходимость модернизации не диктовалась необходимостью «догнать» ушедшие вперед страны западного капитализма и демократии.
Таким образом, выявление групп, с которых начинается конструирование «больших идентичностей», «воображаемых сообществ», а также форм распространения их влияния в Европе XVI–XVII века, представляет собой серьезную исследовательскую проблему. Один из возможных путей ее решения предлагает нам неоисторический подход и концепция «культурной поэтики»5, выдвинутая в рамках этого подхода Стефаном Гринблаттом. Он определял культурную поэтику как «исследование коллективного создания различных культурных практик и вовлечения их в отношения с другими практиками… процесса формирования коллективных верований и опытов, их передачи, концентрации в эстетических формах, которыми можно манипулировать и предлагать к потреблению»6.
Хотя неоисторический подход весьма широк и не представляет собой единой школы, всех авторов объединяет, в качестве философско-антропологической основы, обращение к работам Мишеля Фуко, Клиффорда Гирца, Луи Альтюссера, Жака Дерриды и, особенно в последнее время, Пьера Бурдье. Один из представителей неоисторизма, Луи Монтроз, определял цели неоисторизма как «исследование сущностного или исторического базиса, на котором «литература» отделяется от других дискурсов, возможных конфигураций отношений между культурной практикой и социальными, экономическими и политическими процессами. Последствий постструктуралистской теории текстуальности для практики исторического и материалистического исследования. Средств, которыми социальные субъективности устанавливаются и связываются, процессов, в которых идеология производится и поддерживается. Схем созвучий и контрадикций среди ценностей и интересов индивида, которые актуализируются в шаговых смещениях различных субъектов»7.
Несмотря на достаточно обширную, и в отдельных моментах справедливую критику неоисторизма за чрезмерный материализм, «политизацию ренессанса» и увлечение отношениями власти8, за чрезмерное внимание к текстуальному анализу в ущерб анализу властных практик и трансляцию мифов ренессансной власти9 и даже за подрыв ценностей западного общества10, неоисторический метод, позволяющий выявлять в текстах взаимодействия групповых и индивидуальных ценностей и интересов в их социальном и политическом контексте, процессы формирования и «запуска в оборот» идеологических конструкций представляется весьма оправданным для анализа заявленной проблемы.
Кроме того, важно отметить, что исследователи, близкие к неоисторическому направлению, обращаются к вопросу границ, пределов, структурирования пространства и через это к образу другого. Торил Мои сформулировала существование того, что есть теоретический демаркированный географический ландшафт, который определяет приоритеты центра и границ как репрезентативные и конструктивные разделения символического порядка, при этом идентичность может определяться через негативные маркеры, в терминах маргинальности и отсутствия каких-либо признаков11. Подобный подход основан на тезисе Жака Дерриды о том, что «идентичность вещи определяется в равной степени тем, чем вещь не-является, и тем, чем она является, и также она несет след своих прошлых и будущих идентичностей».
При этом то «иное», что находится за сконструированной границей и присутствует маргинально, является той сущностью, через которую центр определяет свою идентичность, тем «другим», который не есть бинарная оппозиция, но необходимое условие существования ядра. Возникающий при этом «конфликт смыслов» позволяет раскрыть «письмена инаковости» в действии, через которое «иное» поддерживает свое взаимодействие с тем, чем не является, но что определяет12.
Следует также отметить, что «другой» является необходимым условием как позитивной, так и негативной идентичности. В противоречие устоявшемуся представлению о том, что негативное описание есть первая, примитивная фаза конструирования собственной идентичности, за которой неизбежно идет высшая стадия позитивной идентичности, рамках интерсубъективной логики определение себя через негативную характеристику является не менее, если не более важным. При описании себя положительными характеристиками (P есть Q, P есть X и т. д.), происходит фиксация каких-либо качеств, которые позволяют причислить себя к определенному типу, то есть идентифицировать через сходство с известными иными субъектами. Иначе говоря, идентичность формируется через включение себя во всеобщее. При негативном описании (P не-есть Q, P не-есть X) и т. д. субъект описания четко отделяет себя от остального мира, подчеркивая собственную идентичность через собственную уникальность. Это и может быть выбрано стартовой точкой формирования идентичностей, в том числе и «больших».
Событийный фон
Идея брака, призванного скрепить непростые отношения Англии и Испании возникла еще в конце первого десятилетия XVII в. Причины появления этого проекта были весьма многочисленны. Во внешнеполитическом смысле конфликт с Испанией не мог принести особой выгоды Якову, в то время как военные расходы вынудили бы короля прибегнуть к парламентским субсидиям и, соответственно, быть более сговорчивым в противостоянии с Парламентом. Богатое приданое, обещанное испанцами, позволяло Якову получить на руки мощный козырь в отношениях с Парламентом – финансовую независимость. Имелись мотивы и личного, психологического, а также идеологического свойства. В частности – стремление Якова I позиционировать себя как нового Генриха VII, который, как известно, скрепил мир с Испанией и обеспечил казне значительное пополнение за счет брака испанской принцессы Екатерины Арагонской и своего старшего сына Артура.
Смерть принца Генри вызвала перерыв в этих переговорах, которые возобновляются после инаугурации второго сына Якова – Карла в качестве принца Уэльского (1616 г.) и, особенно активно – после начала 30-летней войны. Идея испанского брака оказывается в центре запутанного клубка внешнеполитических проблем (самая важная из которых – возвращение Пфальца зятю Якова I – пфальцграфу Фридриху), сложных отношений с Парламентом и тяжелой финансовой ситуации. К этому добавлялись противоречия между группировками придворной знати, где стремительно восходила звезда Джорджа Вильерса, будущего герцога Бекингема и alter rex, и непростые внутрисемейные отношения Якова I. Дополнительным фактором был крайне негативный образ испанцев и Испании, сложившийся в сознании англичан на протяжении XVI века, а также личность испанского посла – дона Диего де Сармиенто, впоследствии – графа Гондомара.
Итак, 19 февраля 1623 г., несмотря на нежелание Якова I и противодействие некоторых его советников (прежде всего – Лайонела Крэнфилда, графа Миддлсекса), Принц Карл и тогда еще маркиз Бекингем отправляются в путь инкогнито, в сопровождении всего двух слуг. Они ехали инкогнито, под именами Джек и Том Смит, не имея охранных грамот ни от французского, ни от испанского короля (напомню, формального противника в 30-летней войне). Риск в условиях европейской войны был очень велик. Общее отношение к событиям хорошо выразил королевский шут Арчибальд Армстронг. Узнав о поездке, Арчи заявил: Вашему Величеству следует поменяться со мной головным убором». «Почему?» – спросил король. «Потому – отозвался Арчи – что не я послал принца в Испанию». «А что ты скажешь, если принц вернется домой?» – «С удовольствием я сниму шутовской колпак с вашей головы и отправлю его королю Испании»13.
Ознакомительная версия.