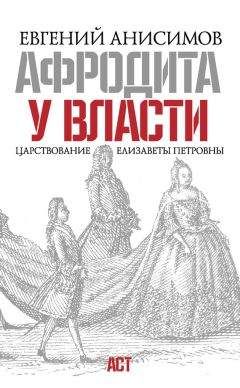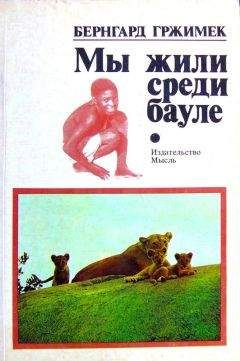Ознакомительная версия.
Действительно, ситуация в Швеции непрерывно обострялась. Как бы написали в газетах XX века, над Стокгольмом подули ветры реванша. С одной стороны, в стране пришло к власти и стало влиять на общественное мнение новое поколение, которому потеря шведским королевством после поражения в Северной войне (1700–1721 гг.) Восточной Прибалтики уже не казалась безвозвратной. Одновременно заметное падение престижа России в послепетровский период воодушевляло шведское офицерство, давненько уже не нюхавшее пороха. Настроения реванша, насильственного возврата территорий в Эстляндии, Лифляндии, Ингрии и Карелии господствовали в шведском обществе. С другой стороны, Швеция, утратив в ходе Северной войны вместе с территориями и свое великодержавие, оказывалась в фарватере политики различных великих держав: то Англии, то Франции, которые диктовали шведам линию политического поведения. Как раз в 1740 году французская дипломатия, преобладавшая в Стокгольме, пыталась столкнуть Швецию с Россией, чтобы в конечном счете не дать России оказать действенную помощь Австрии — исконному врагу французов в Европе.
Весной 1740 года русский посол в Швеции М.П. Бестужев-Рюмин, брат кабинет-министра, чувствовал себя уже как во вражеской стране: шведов, которые к нему приходили, хватали на улице; ему даже пришлось, как в такой ситуации бывает с дипломатами, жечь архивы [350]. Поистине драматичной оказалась судьба высокопоставленного чиновника шведского внешнеполитического ведомства, секретаря Канцелярии по иностранным делам барона Гильденштерна, которого в феврале 1741 года полиция схватила ночью, когда он выходил из русского посольства. Гильденштерн был известен как сторонник России и противник Франции, а оказавшись в доме Бестужева, он нарушил принятый Рикстагом в 1740 году закон, запрещавший правительственным чиновникам иметь контакты с иностранными послами. Гильденштерн был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. И только после заключения русско-шведского мира 1743 года его выдали России, где ему назначили пенсию от правительства и поселили в Курляндии под чужим именем [351].
Но несмотря на все трудности, Бестужеву удавалось получать информацию как о шведских приготовлениях, так и о том, что шведы рассчитывают на смуту в самой России, которая должна облегчить возврат уступленных Петру в 1721 году территорий Восточной Прибалтики. По сообщениям Бестужева, шведская интрига строилась на том, что предстоящую смуту возглавит цесаревна Елизавета Петровна, которая при поддержке шведов сможет отнять власть у слабой правительницы и вернет Швеции ею утраченное [352]. Но все это были только разговоры до тех пор, пока решение, как полагалось в Шведском королевстве, не принял парламент — рикстаг, чрезвычайная сессия которого оказалась бурной и продолжительной. Наконец, постановление было вынесено, и 28 июля 1741 года Бестужеву зачитали ноту об объявлении войны. Россия обвинялась в том, что разговаривала со Швецией высокомерным языком, нарушала заключенные ранее соглашения, вмешивалась во внутренние дела королевства, запрещала вывозить в Швецию хлеб. Это было тогда важной межгосударственной проблемой: без хлеба, который Швеция раньше вывозила из Восточной Прибалтики, страна прожить не могла. Поэтому одним из условий Ништадского мира 1721 года было обязательство России поставлять зерно в Швецию. В конце 1730-х годов по каким-то причинам эти поставки прекратились, и Швеции грозил голод.
Наконец, в ноте было сказано, что шведская нация оскорблена убийством дипкурьера барона Синклера, и это оскорбление можно смыть только кровью [353]. Действительно, история с Синклером вышла некрасивая, и российские спецслужбы тогда довольно сильно опростоволосились. Это произошло летом 1739 года, когда майор барон Синклер вез из Стамбула в Стокгольм важные дипломатические бумаги, касающиеся совместных действий Османской империи и Швеции против России. Русский посол в Стокгольме М.П. Бестужев-Рюмин не раз советовал Петербургу «анвелировать», то есть, говоря языком XX века, ликвидировать Синклера, «а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки или кто-нибудь другой». Петербург и Вена договорились было перехватить Синклера и изъять у него документы, но когда в начале июля 1739 года выяснилось, что при попытке их изъятия шведский дипкурьер был убит, в Вене и в других европейских столицах начался скандал. Подозрение сразу пало на русских, Швеция громко возмущалась, газеты Западной Европы подняли шум — уже в те времена злодейское убийство дипкурьера считалось делом недопустимым. Петербург сразу стал открещиваться от преступления. В письме русскому послу в Саксонии барону Кейзерлингу императрица Анна Иоанновна с показным возмущением писала: «Сие безумное богомерзкое предприятие нам подлинно толь наипаче чувствительно, понеже не токмо мы к тому никогда указу отправить не велели, но и не чаем, чтоб кто из наших определить мог. Иное было бы письма отобрать, а иное людей до смерти бить, да к тому ж еще без всякой нужды. Однако ж как бы оное ни было, то сие зело досадительное дело есть и всякие досадительные следства иметь может». Послание это, естественно, предназначалось для «разглашения в публике»: все знали, что письма перлюстрируются, да и Кейзерлинг не должен был делать секрета из полученного от государыни письма. С той же целью императрица послала рескрипт командующему русской армии фельдмаршалу Миниху на турецкий фронт: «Мы совершенно уверены находимся, что вы в сем мерзостном приключении столько ж мало участия, как Мы, имеете, и вам ничто тому подобное без нашего указу чинить никогда в мысль не придет». Отвечая государыне, Миних полностью отрицал свою причастность к убийству Синклера и клялся: «Меня никогда подвигнуть не может, чтоб нечто учинить, что честности противно, и сие еще толь наименьше, понеже я не токмо Вашего величества указами к тому не уполномочен, но и сам совершенно знаю, коль мало оное от Вашего и.в. апробовано и вам приятно было б».
Вся эта переписка была на самом деле дымовой завесой: императрицу обеспокоил начавшийся скандал, так как он поставил Россию на грань войны со Швецией, но поначалу она одобряла «анвелирование» Синклера. Миних же вообще был исполнителем высочайшей воли — группа офицеров под командой драгунского поручика Левицкого получила от него тайную инструкцию от 23 сентября 1738 года, в которой было сказано: «Понеже из Швеции послан в турецкую сторону с некоторою важною комиссиею и с писмами маеор Инклер, который едет не своим, но под именем называемого Гагберха, которого ради высочайших Е.и.в. интересов всемерно потребно зело тайным образом в Польше перенять и со всеми имеющимися при нем письмами. Ежели по вопросам об нем где уведаете, то тотчас ехать в то место и искать с ним случая компанию свесть или иным каким образом ево видеть, а потом наблюдать, не можно ль ево или на пути, или в каком другом скрытном месте, где б поляков не было, постичь. Ежели такой случай найдется, то старатца его умертвить или в воде утопить, а писма прежде без остатка отобрать». Но Синклер все не ехал и не ехал. В начале 1739 года Миних дал новую инструкцию поручику Левицкому, а также капитану Кутлеру и поручику Веселовскому уже не только насчет Синклера, но и насчет других подлежащих «анвелированию» врагов России — вождей венгров и запорожцев Ракоци и Орлика. А 1 августа 1739 года Миних докладывал государыне, что получил ее указы, «каким наилучшим и способнейшим образом как о Синклере, так и о Ракотии и Орлике комиссии исполнять и их анвелировать», и все, что от него требовалось, в отношении Синклера исполнил. Далее он описывает трудности проведенной операции, все лавры которой, конечно же, должны были принадлежать ему [354]. Материалы, обнаруженные у Синклера, не представляли собой никаких сверхсекретов, но отношения со Швецией были испорчены. В другое время этот инцидент не стал бы причиной войны, но тут он, даже спустя много времени, шведам пригодился.
Вся эта война Швеции против России была, по сути дела, легкомысленной авантюрой, данью воинственным настроениям дворянской молодежи, которая мечтала «отомстить за отцов». Во-первых, при всех политических неурядицах в столице, русская армия к 1740 году прошла две успешные войны — Русско-польскую 1733–1735 годов и Русско-турецкую 1735–1739 годов. Несмотря на многие недостатки в ведении военных действий, комплектовании, снабжении, русская армия начала 1740-х годов была вполне боеспособна. Ее офицерский и генеральский корпус был прочным сплавом русских и иностранных профессионалов, которые хорошо знали свое дело. Наконец, Россия имела подавляющее численное превосходство в вооруженных силах: без особых усилий она могла выставить не менее 75 — 100 тысяч солдат против максимум 30 тысяч шведов.
Ознакомительная версия.