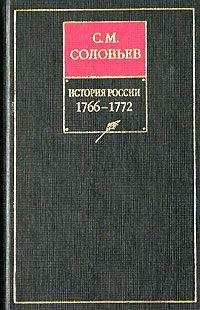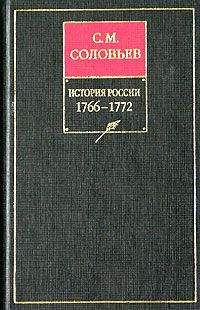Боярин и гетман напрасно беспокоился: Мефодий сам явился к нему с словом примирения, все старое было забыто, кроме старой дружбы, бывшей до 1665 года; и в знак новой дружбы дочь епископа сосватана была за племянника гетманского. Но гетман и епископ подружились и породнились не для того, чтобы чистыми сердцами работать царскому величеству: Мефодий передал свату все свое неудовольствие, все свое раздражение против неблагодарной Москвы, передал ему свои наблюдения, свои страхи, что Москва готовит недоброе для Малороссии. Но одними тайными разговорами с гетманом Мефодий не удовольствовался. Из Гадяча поехал он в свой родной город Нежин и здесь в своем доме при гостях бранил вельмож и архиереев московских, в черном свете выставлял нравы тамошних людей, клялся, что никогда ноги его не будет в Москве. Те же речи начал он говорить у протопопа в присутствии воеводы царского Ивана Ржевского, так что воевода счел приличным для себя уйти, не дождавшись обеда Мефодий не скрывал причину своего неудовольствия на Москву: бесчестили его там, соболей и корму, сколько хотел, не давали. Но Мефодий, говоря о своей обиде, не забывал внушать, что обида готовится и всей Малороссии «Ордин-Нащокин, – говорил он, – идет из Москвы со многими ратными людьми в Киев и во все малороссийские города, чтобы все их высечь и выжечь и разорить без остатку». Речи эти дошли до Тяпкина в Переяславль, тот нарочно прискакал в Нежин, чтобы спросить у Мефодия, от кого это он слышал? Епископ сказал от кого: «Московские торговые люди, которые ездят с товарами в Литву и Польшу и потом приезжают в Малороссию, сказывают мещанам, что боярин Афанасий Лаврентьевич со многими ратными людьми идет в Малую Россию для отдачи Киева; а к гетману и ко мне в грамотах великого государя о Киеве и о малороссийских городах не объявлено, и мы с гетманом об этом очень скорбим и смущаемся». Мефодий дал знать и в Москву о слухах, что Киев и все украйные города уступлены ляхам, писал, что он объявляет об этом, видя во всем народе смятение и помня к себе великого государя милость. Шереметев, узнавши в Киеве о речах Мефодия, отправил к нему немедленно голову московских стрельцов Лопатина сказать, что все слухи, беспокоящие малороссиян, вздорные. «Великий государь, – говорил Лопатин, – учинил мир с королем для того, чтобы в его государской стародавной дедичной отчине, в граде Киеве и во всех малороссийских городах, всякий человек в православии доброхотно жил в добром покое и веселии. Ныне великий государь хочет идти в Киев, поклониться его святыне, свою отчину, город Киев, осмотреть, малороссийские города и верного Войска Запорожского ратных людей и всех жителей своим пришествием увеселить и вовеки непоколебимых в вере и подданстве учинить; а боярина своего Афанасья Лаврентьевича Ордина-Нащокина изволил в малороссийские города послать наперед себя, как издавна государский чин належит: перед государским походом посылаются бояре и думные люди для заготовления запасов и для объявления всем о походе царском. А что бунчужный написал о словах боярина Ордина-Нащокина, и то дело нестаточное: боярин Афанасий Лаврентьевич человек умный, государских великих дел положено на нем множество, и таких слов не только что бунчужному вслух говорить, и тайно мыслить не будет; такие слова вместил какой-нибудь враг креста господня, сатанин угодник, ненавистник рода христианского. Тебе бы, епископу, слыша, что плутишка бунчужный такие слова вместил, разговаривать, что ничего такого быть не могло».
Но эти увещания не действовали. Мефодий писал Брюховецкому: «Ради бога, не оплошайся. Как вижу, дело идет не о ремешке, а о целой коже нашей. Чаять того, что честной Нащокин к тому привел и приводит, чтобы вас с нами, взяв за шею, выдать ляхам. Почему знать, не на том ли и присягнули друг другу: много знаков, что об нас торгуются. Лучше бы нас не манили, чем так с нами коварно поступать! В великом остерегательстве живи, а запорожцев всячески ласкай; сколько их вышло, ими укрепляйся, да и города порубежные людьми своими досмотри, чтобы Москва больше не засела. Мой такой совет, потому что утопающий и за бритву хватается: не послать ли тебе пана Дворецкого для какого-нибудь воинского дела к царскому величеству? Чтобы он сошелся с Нащокиным, выведал что-нибудь от него и дал тебе знать; у него и своя беда: оболган Шереметом и сильно жалуется на свое бесчестие. Недобрый знак, что Шеремет самых бездельных ляхов любовно принимает и их потчивает, а козаков, хотя бы какие честные люди, за лядских собак не почитает и похваляется на них, да и с Дорошенком ссылается! Бог весть, то все не нам ли назло? Надобно тебе очень осторожну быть и к Нащокину не выезжать, хотя бы и манил тебя. Мне своя отчизна мила: сохрани бог, как возьмут нас за шею и отдадут ляхам или в Москву поведут. Лучше смерть, нежели зол живот. Будь осторожен, чтобы и тебя, как покойного Барабаша, в казенную телегу замкнув, вместо подарка ляхам не отослали!»
Брюховецкий не ограничился одною осторожностию: он прямо изменил, прямо поднял восстание против царя. Но неужели Мефодий так умел передать свое раздражение, свои опасения Брюховецкому, что тот по одним внушениям епископа решился сделать это? Нет сомнения, что Мефодий своими внушениями приготовил гетмана к измене, но окончательно Брюховецкий решился на нее по другим, более сильным побуждениям. Мы видели, какие замыслы питались на западном берегу Днепра, в Чигирине: Дорошенко хотел быть гетманом обеих сторон Днепра, Тукальский – митрополитом киевским и всей Малороссии. Тукальский был не прочь достигнуть своей цели и с помощию Москвы, и Дорошенко готов был называться гетманом царского величества, но старый соумышленник Выговского не хотел быть гетманом на условиях Брюховецкого, а других условий теперь трудно было получить от Москвы. И вот Дорошенко и Тукальский находят средство оторвать восточный берег Днепра от Москвы с помощию самого Брюховецкого. Тукальский завел переписку с последним, стал его обнадеживать, что Дорошенко уступит ему свою булаву и таким образом будет он, Брюховецкий, гетманом обеих сторон Днепра, но прежде всего он должен выжить из Украйны воевод московских, отложиться от царя и отдаться под покровительство султана. Сам Дорошенко писал, что царь прислал к нему Тяпкина с призывом на гетманство восточной стороны Днепра. Брюховецкий не преодолел искушения, тем более что внушения Мефодия уже сделали свое дело: Брюховецкий, потакая Москве, возбудил против себя ненависть в козачестве, но какого добра ждать от Москвы? Об этом знает епископ Мефодий, об этом знает бунчужный; надобно выйти из тяжелого положения между двумя огнями, между ненавистию козацкою и замыслами московскими – и средство готово: поднявшись против Москвы, против воевод царских, Брюховецкий приобретал расположение козаков, Дорошенко откажется от гетманства, и Иван Мартынович засядет в столице Богдана Хмельницкого.
И вот гетман шлет за полковниками, зовет их на тайную раду; в Гадяч съехались: нежинский полковник Артема Мартынов, возведенный на место сверженного Брюховецким Гвинтовки, черниговский Иван Самойлович (будущий гетман), полтавский Костя Кублицкий, переяславский Дмитрий Райча, миргородский Грицко Апостоленко, прилуцкий Лазарь Горленко, киевский Василий Дворецкий. Была рада о том, какими мерами дело начать, как выживать Москву из малороссийских городов? Сначала полковники слушали Брюховецкого подозрительно, думали, что он этими словами искушает их; Брюховецкий заметил это и поцеловал крест, и полковники ему поцеловали.
Уже в конце 1667 года между козаками пущена была весть, что Брюховецкий больше не нижайшая подножка царского престола, и волнения начались. В Батуринском и Батманском уездах козаки Переяславского полка начали разорять крестьян, бить их, мучить, править деньги и всякие поборы, вследствие чего уездные люди перестали давать деньги и хлеб в казну царскую. В январе 1668 года в Миргороде многие мещане записались в козаки и отказались платить подати в казну; приехал челядник Брюховецкого и запретил мельникам давать в казну хлеб. В Соснице нечего было взять с мещан и крестьян, которые от козацкого разоренья или разбрелись, или сами записались в козаки. То же самое произошло в Козелецком уезде. В Прилуках в большом городе стояла на площади вестовая пушка: полковой есаул велел пушку взять и поставить в проезжих воротах, и когда воевода прислал солдат взять пушку в верхний городок, то есаул бил солдат и пушки не дал. «Мы и из верхнего городка все пушки вывезем!» – кричал он. По его же наущению все мещане и поселяне перестали платить подати, и сборщикам нельзя стало появляться в уездах: им грозили смертию; козаки грабили мещан-откупщиков, резали им бороды и прямо говорили мещанам: «Будьте с нами, а не будете, то вам, воеводе и русским людям, жить всего до Масляницы». В Нежине откупщики были не из мещан, и тем сильнее сердились на них последние; но здешние мещане, довольные воеводою Ржевским, действовали законным путем, послали челобитчиков в Москву, чтоб государь хотя на один год льготою их пожаловал для уплаты долгов. «На арендовый откуп даны были грамоты самому городу, а теперь стрелец отпускает из наддачи, чиня великую обиду оплаканному месту; утвержденные грамотами доходы на ратушу: весчее, померное, с продажи лошадей, дегтярная торговля, табак и мельницы Авдеевские – все эти доходы стрелец Спицын с великою налогою выдирает. По жалованной грамоте, в случае большой неправды в суде, указано не звать магистрата к боярину и воеводе, но звать в Москву; а теперь киевский приказ все это разорил».