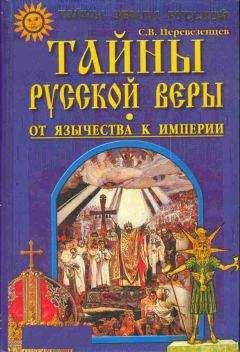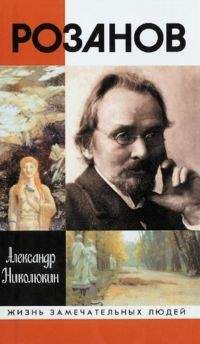К сожалению, многие идеи, выдвинутые славянофилами, оказались недооценены как современниками, так и потомками, особенно их методологические наработки, в основе которых лежат представления о России, как об очень своеобразном, обладающем собственными характеристиками мире. И только в последние годы у современных исследователей вновь возник интерес к тем идеям, а иногда и интуитивным прозрениям славянофильских мыслителей, которые позволяют представить в более полном свете весь ход развития древнерусской религиозно-философской мысли.
Первую в отечественной историографии попытку представить древнерусскую религиозно-философскую мысль как важнейший этап развития отечественной философии вообще предпринял архимандрит Гавриил в своем шеститомном историко-философском обозрении. Он утверждал, что «каждый народ имеет свой особенный характер, отличающий его от других народов и свою философию, более или менее наукообразную, или по крайней мере рассеянную в преданиях, повестях, нравоучениях, стихотворениях и религии».
С 1845 года начали публиковаться отдельные главы исследования «История Русской Церкви» иеромонаха Макария (Булгакова), будущего митрополита Московского и Коломенского. Работа над текстом книги продолжалась почти сорок лет, до самой смерти митрополита Макария в 1882 году. При его жизни свет увидели 11 томов издания, а в 1883 году вышел 12-й том. Митрополит Макарий провел поистине гигантскую работу по воссозданию в сознании современников не только истории церкви, но и истории древнерусской религиозно-философской мысли. В «Истории Русской Церкви» им осмыслены и критически проанализированы практически все имевшиеся тогда в научном обороте источники, столь же критически осмыслена и литература того времени. Необходимо подчеркнуть выдающееся значение этого кропотливого и фундаментального труда, которое до сих пор сохраняет свое историографическое значение. И недаром переиздание многотомного труда митрополита Макария встретило уже в наши дни живейший интерес.
Однако в отечественной историографии XIX века все большее влияние приобретало убеждение в том, что в Древней Руси не было самостоятельной философской мысли. Подобное убеждение было связано с методологическим подходом, определяющим сам предмет философии исходя из тех определений, которые уже утвердились в западноевропейской науке — т. е. исключительно как рационального знания.
Так, К. Д. Кавелин в очерке «Философия и наука в Европе и у нас», появившемся в 1884 году, отрицая наличие философии не только в Древней Руси, но и в России XIX века, отмечал: «Философия никогда не была у нас предметом серьезного интереса… Мы, русские, до сих пор не имели философии и очень мало о ней заботимся».
По аналогии с западноевропейским объяснялось развитие древнерусской мысли и в первой марксистской работе по этому поводу, написанной Г. В. Плехановым — «История русской общественной мысли». А Э. Радлов, выпустивший в 1920 году «Очерк истории русской философии», все время Древней Руси включал лишь в «подготовительный» период истории русской философии.
Наиболее ярко, так сказать, «европеоцентристский» подход выразил Г. Г. Шпет, автор опубликованного в 1922 году «Очерка развития русской философии»: «Я, действительно, сторонник философии как знания, а не как морали, не как проповеди, не как мировоззрения». Вполне естественно, что при подобном взгляде на историю древнерусской мысли Г. Г. Шпет и не мог увидеть ничего достойного. Недаром главу, посвященную Древней Руси, он назвал «Невегласие», а древние русские поучения и слова говорят, по его мнению, лишь «о низком культурном уровне, о дикости нравов и об отсутствии умственных вдохновений у тех, к кому они обращались, столько же они свидетельствуют об отсутствии понимания задач истинной умственной культуры у тех, от кого они исходили».
Подобная позиция довольно долго, практически все XX столетие, господствовала в отечественной историографии. Так или иначе, но свое отражение частично она нашла даже в трудах мыслителей Русского Зарубежья, которых трудно назвать рационалистами. К примеру, в капитальном исследовании В. В. Зеньковского «История русской философии» говорится, что если до XVIII века философские запросы и не были чужды русскому уму, «но, за небольшими и редкими исключениями, они находили обычно свое разрешение в религиозном миросозерцании». Недаром весь период Древней Руси и даже XVIII век автор обозначал как «Пролог к русской философии». Впрочем, позиция В. В. Зеньковского намного более объективна, по сравнению с мнением того же Г. Г. Шпета, и не случайно глава, посвященная древнерусской мысли, крайне интересна и современна.
Н. А. Бердяев в работах «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937 г.), высказав несколько интересных идей относительно русской религиозно-философской мысли XVI–XVII вв., тем не менее считал, что «в Московском царстве очень слаба и невыражена была культура мысли», что «Московское царство было почти безмысленным и бессловесным». О «безмыслии и безмолвии допетровской Руси» пишет он и в книге «Русская идея» (1946). Хотя в этом исследовании Бердяев большое место отводит рассмотрению древнерусской религиозно-философской мысли, а выводы о своеобразии русского национального самосознания, сделанные им в результате анализа, и сегодня заслуживают пристального внимания.
Тем не менее труды мыслителей Русского Зарубежья внесли свой значительный вклад в отечественную историографию религиозно-философской мысли Древней Руси. Связано это было с тем, что они, будучи сами в большинстве религиозными философами, попытались осмыслить древнерусскую мысль именно как религиозно-философскую. Как писал уже названный В. В. Зеньковский: «Русское философское творчество — мы будем в дальнейшем много раз убеждаться в этом — настолько глубоко уходит своими корнями в религиозную стихию древней России, что даже те течения, которые решительно разрывают с религией вообще, оказываются связанными (хотя и негативно) с этой религиозной стихией».
Наиболее характерными в этом отношении стали работы О. Г. Флоровского и Г. П. Федотова, в принципе, далекие от «европеоцентризма». Г. В. Флоровский, автор фундаментального труда «Пути русского богословия» (1937), посвятил периоду Древней Руси три объемные главы. Традиционно уже утверждая, что «древнерусская культура оставалась безгласной и точно немой», что «русский дух не сказался в словесном и мысленном творчестве», автор все же резко выступает против тех, кто продолжает отрицать наличие культуры в Древней Руси вообще: «Вообще нельзя объяснять трудности древнерусского развития из без-культурности. Древнерусский кризис был кризисом культуры, а не без-культурности или не-культурности…»
Основная идея, служившая автору путеводной звездой в процессе всего исследования, — анализ древнерусской мысли с точки зрения «византинизма». Именно поэтому весь ход развития религиозно-философской мысли Древней Руси Флоровский рассматривает исключительно как «кризис византийской культуры в русском духе». «В этом отречении «от греков» завязка и существо Московского кризиса культуры…» — пишет о. Г. Флоровский.
В таком подходе заключается и новизна и одновременно определенная узость всей книги. Новизна связана с включением древнерусской мысли в контекст святоотеческого предания и византийского культурного наследия. Узость же проявляется в том, что само святоотеческое предание о. Г. Флоровский практически сводит к «византинизму». В предисловии к парижскому изданию «Путей русского богословия» 1983 года известный богослов, специалист по истории русской и византийской церкви прот. И. Мейендорф справедливо замечает: «Если критиковать русское православие во имя «византинизма», не следовало бы также подвергнуть критике и сам «византинизм»? Равнозначен ли он Священному Преданию как таковому?»
И все же многие мысли, оценки и выводы Г. В. Флоровского никак нельзя назвать устаревшими, даже если и не соглашаться с ними. Особенно интересными представляются разделы, посвященные западным влияниям на рубеже XV–XVI веков, а также глава о расколе Русской церкви в XVII столетии.
Г. П. Федотов смотрел на развитие древнерусской религиозно-философской мысли иначе, нежели о. Г. Флоровский. Федотов, наоборот, всячески подчеркивал ее национальный характер, стремясь показать губительность излишнего подражательства чужому культурному опыту. «Бесплоден эклектизм, подражающий слегка всякому чужому голосу, и губительно взятие на себя чужого подвига. Народ, «забывший» о своем служении, рискует оказаться рабом неключимым, зарывшим в землю свой талант», — писал Г. П. Федотов в статье «Национальное и вселенское» (1928).
Признавая, что «высший смысл культуры — богопознание и гимн Богу, раздвигающий храмовую молитву до пределов космоса», Г. П. Федотов немало своих исследований посвятил специфике и своеобразию древнерусского религиозного сознания. Особенно пристальное внимание он уделял истории и существу русской святости, как уникальному феномену в истории христианства.