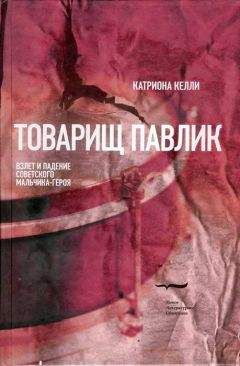Знаменательно, что в другом тоталитарном, однопартийном государстве, Третьем рейхе, чествовался герой, похожий на Павлика, — юный гитлеровец Квекс{13}. Не следует, однако, рассматривать два эти основные нарратива в однопартийных государствах в отрыве от остального мира. Разоблачение членов семьи не подвергается повсеместному осуждению даже в тех обществах, в которых к автономии семьи относятся с уважением и чтят индивидуалистские моральные ценности, как, например, в западных странах конца XX века. И хотя Юрий Дружников настаивает на том, что «в семье и, так сказать, из семьи аморальны любые виды доноса»{14}, ответ на вопрос, при каких обстоятельствах правомерно сокрытие преступления, совершенного близким родственником, обычно звучит не так категорично, как это заявление.
В западной демократической традиции существуют канонические тексты, ставящие под вопрос добродетельность «внутреннего доносчика». В диалоге Платона «Евтифрон», например, Сократ ставит на место возомнившего о себе афинянина, предлагающего осудить его отца, по вине которого погиб слуга. Самонадеянные рассуждения бдительного человека о собственной добродетельности разобраны самым доскональным образом и по всем правилам логики представлены ложными. Будучи уверен в своей правоте, афинянин путается в обвинениях и в конце концов попадает в ловушку. Теперь мотивы его поведения оборачиваются для искушенного наблюдателя (с сократическим складом ума) попыткой примитивной мести — но никак не стремлением определить справедливое наказание.
Таким образом, в традиции основных западных философских учений явно прослеживается антипатия к доносительству на членов семьи. В продолжение этой линии Достоевский старательно обходит в своих произведениях тему «кровное родство vs вина», избегая постановки вопроса о правомерности доносительства на членов семьи. Так, например, родственники Раскольникова не знают о том, что он причастен к убийству двух женщин, а Иван Карамазов, оказавшийся невольным духовником Смердякова, очень кстати сходит с ума и поэтому лишается возможности разоблачить своего сводного брата — даже если бы такая идея пришла ему в голову.
Однако западная культура предлагает и другие примеры[18]. Среди мифов об основании Рима есть знаменитая легенда, в которой долг ставится выше семейных связей: рассказ Ливия о Бруте Старшем, который приговорил собственных сыновей к смерти за предательство республики[19]. Мэр Линч в средневековом городе Голуэй своими руками повесил сына и, поставив тем самым правосудие выше семейных уз, дал жизнь новому глаголу. Бытовая западная мораль с сочувствием относится к тем, кто ради всеобщего блага попирает личные чувства перед лицом серьезной опасности. В современном мире к детям, которые разоблачили родителей или других родственников, совершивших определенные экономические преступления (такие как организация торговли детьми с целью сексуальной эксплуатации, рэкет или торговля наркотиками в крупном масштабе), а также некоторые политические преступления (как, скажем, причастность к мафии или террористической деятельности), не говоря уже о преступлениях против личности (прежде всего о насилии над детьми), относятся скорее с сочувствием и пониманием, а не с отвращением. Когда Сорха Маккенна, дочь председателя североирландского движения за права человека, обличала своего отца в насилии над детьми, она произнесла почти те же слова, которые были вложены в уста легендарного Павлика: «Я больше не считаю его своим отцом». Она заявила, что посчитала необходимым так поступить, ибо ее отец — общественная фигура{15}. При этом общество не сомневалось в оправданности ее действий.
Будет справедливым сказать: идеализация тех, кто ставит гражданский долг выше семейных ценностей, означает нечто большее, чем просто подавление личностной автономии, свойственное тоталитарному государству. Особенность советского варианта гражданского патриотизма не ограничивается идеей, что следует разоблачать даже отцов, если они совершили правонарушение. На исключительном случае Павлика Морозова, намеренно превращенном в сенсацию, советский гражданский патриотизм экстраполируется в плоскость общего принципа, провозглашающего доносительство добродетелью при любых обстоятельствах. Он определяет судьбу разоблаченных, оставляя им только одно право — смириться с несправедливостью суда и безропотно принимать пытки. По этому принципу признания, полученные под принуждением, считаются свидетельскими показаниями, а скоропалительно вынесенный приговор к смертной казни и его незамедлительное исполнение или заключение в ужасные советские тюрьмы и трудовые лагеря — правомерными.
Миф о Павлике Морозове связан не только с разоблачением внутри одной семьи. Похоже, большинство тех, кто до сих пор писал об этой истории, забыли, что речь шла об убийстве детей. А между тем в первые месяцы после преступления именно факт убийства детей вызывал главный интерес общественности. Письма, которые потоком лились в местную и всесоюзную пионерскую прессу, часто содержали лозунги о продолжении борьбы за правое дело и уверения, что «врагам народа» не удастся запугать граждан своими дьявольскими происками. Но в основном авторы писем требовали отмщенья зверям, совершившим такое чудовищное преступление. О приоритетах свидетельствует письмо, написанное группой детей из Московской области в октябре 1932 года.
«ПРОТЕСТ.
Мы, пионеры и школьники Костеревской школы ФЗС при фабрике “Коминтерн”, прочитав в “Пионерской правде” об убийстве кулаками пионера Павла Морозова, требуем убийцам высшей меры наказания, расстрела. Мы обязуемся, со своей стороны, [усилить] борьбу за знания и трудовую дисциплину в школе.
Спи, дорогой товарищ Павлуша!
Мы твое дело доведем до конца.
И лучший венок и памятник будет тебе наша борьба за овладение наук.
Пионеры отр. № 8 и школьники Костеревской ФЗС при фабрике “Коминтерн”»{16}.
Понятно, что письма такого рода не возникали сами по себе. И «мы прочитали статью…» следует понимать как «наша учительница задала нам на дом прочитать выдержки из газеты и предложила написать в газету письмо». Конечно, возмущение убийцами детей всячески подогревалось властями, но все же нельзя сказать, что оно целиком и полностью спровоцировано. Акт столь жестокого насилия — обоим мальчикам были нанесены многочисленные раны в шею, грудь и живот — в любом обществе вызвал бы негодование. В других странах убийство детей тоже расценивается как особое, сверхъестественное зло. Считается, что оно чаще всего произрастает в отвергнутых обществом социальных слоях (обычно подозрение в совершении подобных преступлений падает на такие социальные группы, как этнические меньшинства или педофилы). По общему представлению, такие преступления обычно совершаются группами маргиналов[20]. Когда в сентябре 2001 года в Темзе обнаружили обезглавленный и расчлененный труп африканского ребенка, общественность пришла к выводам, которые могут послужить классическим примером реакции общества на подобные происшествия: «Сначала следователи предположили, что преступление было совершено в результате семейной ссоры или на сексуальной почве, а труп был расчленен, чтобы затруднить опознание жертвы. Однако позже в Челси, в двух милях вверх по течению реки, были найдены следы африканского ритуального действа: на листе бумаги и на семи полусгоревших свечах было вырезано нигерийское имя. Так может быть, мы имеем дело с ритуальным убийством?»{17} Если размышления подобного рода могут возникнуть в стране, которая гордится своей культурой просвещенного правосудия, то нет ничего удивительного в том, что в Советском Союзе, где юридическая система была открыто подчинена нуждам «классовой борьбы», процветали дикие идеи. Противники коллективизации объявлялись нечистью, способной на любое зверство. В свою очередь, жестокое убийство служило доказательством звериной природы врагов советского общественного строя.
Советское законодательство того времени не расценивало убийство ребенка как уголовное преступление, за совершение которого преступник приговаривался к смертной казни. Уголовный кодекс Российской Федерации 1926 года вообще не рассматривал убийство ребенка как особо тяжкое преступление. Строгость наказания по статьям от 136 до 140 зависела оттого, было ли преступление преднамеренным. Наказание варьировалось от трех лет заключения в тюрьме за «убийство по неосторожности» до максимальных десяти лет заключения: в особых случаях преднамеренного убийства, когда преступление совершено из корысти, ревности или других низменных побуждений; если преступление совершено рецидивистом или в целях сокрытия другого убийства; в случае, когда преступником оказывался опекун жертвы, использовавший последнюю в своих интересах; а также в случае, когда убийству предшествовали пытки или преступление совершилось против беременной женщины. Примечательно, что детям был посвящен особый раздел Уголовного кодекса: в статье 12 говорится, что «меры социальной защиты судебно-исправительного характера не подлежат применению к малолетним до четырнадцати лет, в отношении которых могут быть применяемы лишь меры социальной защиты медико-педагогического характера». На практике это означало, что дети младше четырнадцати лет не подлежали суду, тюремному заключению или казни, а их дела рассматривались «комсонесами» (комитетами по делам несовершеннолетних, состоящими из врача, юриста и представителя Наркомпроса), и самое большее, что им грозило, — это надзор или направление в специальные дома для «трудных детей». Подростки в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет тоже, как правило, подлежали «медико-педагогическим» мерам воздействия. Те же меры могли применяться и к шестнадцати-восемнадцатилетним, если суд считал это целесообразным. Статья 22 запрещала применение смертного приговора к личностям моложе восемнадцати лет{18}. Таким образом, Уголовный кодекс выделял в специальную категорию малолетних преступников, включая убийц, но не малолетних жертв преступлений.