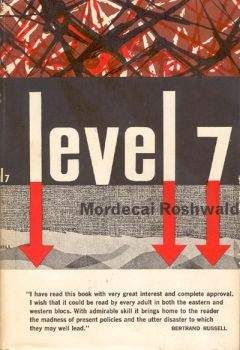Саша рывком разгибается, и я растягиваюсь на мокром полу.
- Ага! Попалась! Помоги-ка мне лучше раздвинуть стол. Уже темнеет, видишь?
Мы раздвигаем большой стол и укладываем вставные доски. Стол становится таким длинным, что я, сколько ни растягиваю руки, не могу дотянуться от начала до конца. С хрустом расправляется блестящая скатерть и накрывает всю поверхность. В один миг скрываются ножки. Края скатерти опускаются, как шлейфы, и ниспадают складками.
- Башутка, что ты там замешкалась? - торопит меня Саша. - На! Развесь полотенца - каждое на свой гвоздь.
- Вот еще салфетки. Что с ними делать?
- Одну положи на папину халу.
Я подхожу к папиному месту и, как фату на невесту, набрасываю салфетку на субботний хлеб.
На другом, мамином, конце стола уже стоит массивный серебряный пятиствольный подсвечник. Еще две ветви прибавлены по бокам до положенного числа. В семи розетках держатся длинные белые свечи. Мамина менора, конечно, затмевает мой маленький подсвечник, подарок папы. Рельефная серебряная ножка украшена тонкой, как паутина, сквозной резьбой. Сверху стеклянная чашечка, куда скоро капля за каплей будет стекать воск.
Стол, похожий на занесенный снегом замок, словно чего-то ждет. Вдруг бахрома на скатерти зашевелилась. Донесся какой-то шум. Слышно, как упала металлическая штора в витрине магазина. Проскрежетало ржавое железо. Слава Богу - закрывают! Доносятся голоса спешащих поскорее уйти служащих.
- Ладно, брось! - говорит мама кассирше, которая живет на другом конце города и дольше всех задерживается на работе. - На трамвай опоздаешь!
Вот, наконец, и папа.
Я встречаю его как дорогого гостя.
- Не знаешь, Башка, где раздобыть чистый воротничок и пару манжет?
- Вон они, на туалетном столике.
Над столиком зеркало, папа быстро отворачивается, но все-таки успевает наткнуться на свое отражение.[В субботу правоверным евреям запрещено смотреться в зеркало.]
- Да что такое! Петли так туго накрахмалены, что пуговицу не проденешь...
Папа отдувается - ему тесно в новом воротничке.
- Хочешь, я спрошу у Саши другой?
- Нет времени. Уже пора в синагогу.
Саша вносит самовар, зажигает лампу. Начищенный до блеска самовар бурлит и кипит - прямо паровоз! Вспыхивает лампа под абажуром. Тепло и свет разлились по комнате. Папа сел за стол и спокойно прихлебывает сладкий чай с вареньем.
Последней отрывается от магазина мама. Проверяет перед уходом, все ли заперто.
Так и слышу ее меленькие шаги. Вот она закрыла желтую дверь. Вот шуршит платье. Изящные ботинки, легко ступая, приближаются к столовой. На пороге мама на миг застывает, будто ослепленная видом белоснежного стола и серебряных подсвечников. Но медлить некогда!
Она споласкивает водой лицо и руки, поправляет свой любимый кипенно-белый кружевной воротничок к, преобразившись, другим человеком подходит к свечам. Чиркает спичкой и зажигает их одну за другой. Семь свечей оживают, разгораются и ярко освещают мамино лицо. Она завороженно опускает глаза. Медленно, три раза подряд обхватывает огни кольцом рук, будто включает свое сердце в эту оправу. И все будничные дела и заботы тают вместе со свечным воском.
Мама произносит благословение над субботними свечами. Молитвенный шепот струится из-под приложенных к лицу ладоней и еще сильнее разжигает язычки пламени. Мамины руки над свечами светятся, как скрижали Завета над священным ковчегом.
Я подхожу к маме и заглядываю ей в лицо. Мне самой хочется попасть под благодать ее рук. Хочется увидеть мамины глаза. Но они прикрыты растопыренными пальцами.
От маминой Меноры я зажигаю свою маленькую свечку и тоже поднимаю руки и посылаю ей сквозь изгородь из пальцев обрывки перехваченных на лету молитв. Чуть запылав, свечечка начинает капать. Я обнимаю ее ладонями, чтобы унять слезы.
В мамином шепоте то и дело проскальзывают имена. Она вспоминает папу, детей, своего отца, мать... Вот и мое имя падает в свечной костер. Что-то обжигает мне горло.
- Господи, благослови их! - Мама наконец опускает руки.
И я выдыхаю в ладони:
- Аминь!
- Шабат шолом! - громко возвещает мама.
Открывшееся лицо ее засияло новой чистотой, словно вобрало в себя свет субботних свечей.
- Шабат шолом! - отвечает с другого конца стола папа и встает, чтобы идти в синагогу.
- Шабат шолом! - кричит Хая с порога кухни. Она тоже достала с этажерки пару медных подсвечников и вставила в них две короткие свечки. Старый стол прикрыт белой скатеркой - обычной кухонной суеты как не бывало. Два белых столбика на белой глади льна смирили ее.
Вся утварь расставлена и развешана по местам. Даже плита накрыта черным железным листом. Ни горшков на печке, ни кучи дров на полу. Влажный пар не замутняет белизну стен. Все вылизано, вымыто. Хая сидит за столом и не знает, куда девать праздные руки. Ей становится горько. Хочется тоже хоть немного почувствовать себя хозяйкой.
- Саша, выйди на минутку! - Она указывает русской служанке глазами на дверь и, оставшись одна, зажигает свечи.
Она выросла и много лет прожила среди чужих людей и вдруг вспомнила, что и у нее были отец, мать, отчий дом.
- Благословен Ты, Господь Бог наш! Ты не пожелал дать мне семью, о Боже... За грехи мои, не иначе... - Хая роняет слезу. Глаза ее наливаются влагой, как лунки свечей. - Но, хвала Господу, я живу у хороших людей, в благочестивом доме. Да и сама как-никак еврейка... Где-то был же у меня молитвенник. Куда я его засунула? Эх, никогда-то не помолишься, день и ночь якшаешься с этой дурехой, как еще в ослицу не превратилась!
Вот он, молитвенник, нашелся. Хая листает его и громким голосом читает благословение над свечами.
Все ушли в синагогу. Дома остались только мы с мамой. Белый стол с подсвечниками сияет для нас одних. Кажется, само небо глядит через окно на огоньки и греется. Потрескивает лампа с висячим абажуром, мама сидит под ней и тихо молится. Слова молитв монотонно роятся. Иногда вдруг вздохнет какая-нибудь из свечей. А моя свечечка совсем догорает.
Почти уткнувшись в стенку, я читаю хвалебные гимны.
А стенка дышит, дышит, как живая. Хочется разрастись в ее величину. И страшно коснуться ее, даже раскрытым молитвенником.
Наконец в прихожей слышны голоса. Вернулись из синагоги братья. Толкаются в дверях, орут наперебой:
- Ну как тебе чтец? Мчался как на пожар!
- А ты хоть "Шмоне эсре" прочитал?
- Я? Я сидел рядом с дядей Бере... А он так брызгается слюной!
- Фу, Израиль, невежа! Лучше помоги мне вытащить руку из рукава, подкладка вывернулась - прямо турецкий полумесяц!
- Давай же! Шевелись! Ишь скроил рожу!
Мальчишки кидают друг в друга пальто.
Мендель мечтательно вздыхает.
- Вот бы меня вызвали завтра читать Тору...
- И ты бы трясся как осиновый лист... - подкалывает его Абрашка.
- Тихо! - осаживает их вошедший следом ребе. Вам бы только насмешничать, ничего святого! Разбойники! Хоть бы "Шабат шолом" сказали!
Ребе отчитывает их тихим, ровным голосом, притушив в честь субботы свою обычную гневливость.
Почему это мои братцы всегда приходят из синагоги такими взбудораженными? Туда их чуть ли не гнать приходится. "Уже поздно! Пора в синагогу!" Возвращается же веселее некуда. А уж тем для разговоров хватает на целую неделю. Что там такое происходит, в синагоге? И что так долго делает там папа? Он каждый раз приходит самым последним. Наверное, ему мешают молящиеся во весь голос евреи, и он принимается возносить славословия Богу, когда все расходятся. Даже в пятницу вечером задерживается один допоздна. Кругом тишина. Только редкие мухи кружат вокруг светильников и жужжат.
Папа, стоя на своем месте, лицом на восток, раскачивается из стороны в сторону, как колеблемое ветром дерево за окном.
Отрешившись от мира, с закрытыми глазами, он молится, тихонько и нараспев. Пропетые стихи парят и трепещут вокруг него. Издали поглядывает шамес, маленький, тщедушный, совсем крохотный рядом с толстенными фолиантами на столике. [Шамес - синагогальный служка.]
Шамес уже давно завершил свои молитвы. Он все же кончает первым, чтобы почтенным людям не пришлось его дожидаться. И теперь сидит, молчит, как, и ждет папу. А папа все раскачивается. Шамес в своем углу - тоже. Папа вздыхает. Шамес - тоже. Заслышав мягкие папины шаги, встает. Папа отходит от стены, шамес отрывается от скамейки, радуясь, что папа наконец закончил свои "Восемнадцать благословений" и можно отдохнуть.
- Шабат шолом! - приветствует его еще не спустившийся на землю папа, брызгая слюной во все стороны. Шамес помогает ему надеть пальто.
- Реб Шмуль-Ноах! - шепчет шамес. - Во дворе перед синагогой остались два солдата из еврейских семей. Бедняжки! Им некуда податься...
- Что ты говоришь? - вскидывается папа. - Поди скажи им, что я прошу их не уходить, пусть идут со мной. Еврейское дитя, в Шабат, без трапезы! Боже милостивый!
И папа спешит домой: нехорошо, что он так задержался.