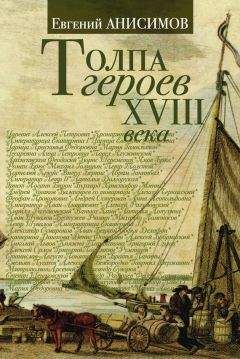Через сутки, в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года, горячо и со слезой помолившись Богу, цесаревна надела кавалерийскую кирасу, села в сани и по темным и завьюженным улицам столицы полетела в казармы Преображенского полка.
Три сотни разгневанных кумовьев
В слободе Преображенского полка Елизавету уже ждали. Она, раскрасневшаяся от мороза и волнения, была прекрасна, как Венера, но лапидарна, как Юлий Цезарь, когда обратилась к солдатам: «Други мои! Как вы служили отцу моему, то при нынешнем случае и мне послужите верностью вашею!» В ответ гренадеры дружно прокричали: «Рады все положить души наши за Ваше Величество и Отечество наше!» – и устремились за своим прелестным полководцем в сторону Зимнего дворца.
Вряд ли стоит говорить, что гренадеры не были подняты со своих постелей так же внезапно, как генерал-прокурор Шаховской. Они были давно подготовлены к «революции» Елизаветы. Предварительные разговоры, намеки доверенных цесаревны, деньги и обещания, которые они щедро раздавали, сделали свое дело наилучшим образом. Но все же успех был бы невозможен, если бы не весьма благоприятная для Елизаветы политическая конъюнктура. После смерти императрицы Анны Иоанновны осенью 1740 года наступили смутные времена. Как помнит читатель, формально у власти стоял (точнее – лежал в люльке) двухмесячный император Иван Антонович – сын правительницы Анны Леопольдовны и принца Антона Ульриха. У трона крошечного императора сразу же началась отчаянная борьба. Вначале власть прибрал к своим рукам фаворит покойной императрицы Бирон, через три недели его сверг фельдмаршал Миних, которого вскоре оттеснил от власти Остерман.
Чехарда у трона, в которой участвовали преимущественно иностранцы на русской службе, безликость, неавторитетность верховной власти правительницы Анны Леопольдовны и всей Брауншвейгской фамилии слишком раздражали многих и прежде всего – гвардию. Этим и сумела воспользоваться цесаревна Елизавета Петровна. Особенно популярна она была среди гвардейских низов: из 308 рядовых, которые отправились с Елизаветой брать Зимний дворец, всего лишь 54 были дворянами, то есть меньше 20 %. Остальные были выходцами из крестьян, церковников, однодворцев и даже холопов. И хотя они уже оторвались от своей прежней социальной среды и находились во власти типично преторианской психологии с ее туповатой сплоченностью, фамильярным отношением к власть предержащим, весьма преувеличенным представлением о собственной роли в судьбе трона и страны, тем не менее, их особые симпатии к дочери великого царя и лифляндской прачки были очевидны.
Напротив того, дворянство, особенно родовитое, и тогда и позже с пренебрежением относилось к Елизавете, чье «подлое» и незаконное происхождение (ведь Елизавета родилась до свадьбы Петра I и Екатерины) и «простонародное» поведение коробило светских дам и кавалеров. Гвардейским же солдатам эта милая, веселая, «любезная взором» красавица очень нравилась. Она запросто, как некогда ее великий отец, водила с ними компанию. Более того, Елизавета даже породнилась со многими гренадерами, охотно откликаясь на приглашения быть крестной матерью их отпрысков. А крестное родство (по русским православным традициям – кумовство на «ты»), считалось весьма близким, ибо шло от Бога. И вот мы читаем в донесениях французского посланника Шетарди о том, как Миних на Новый 1741 год пришел поздравить цесаревну с праздником и был просто ошарашен зрелищем, которое перед ним открылось: «Сени, лестница и передняя были заполнены сплошь гвардейскими солдатами, фамильярно величавшими эту принцессу своей кумой. Более четверти часа он не в силах был прийти в себя в присутствии принцессы Елизаветы, ничего не видя и не слыша».
Тревога старого фельдмаршала понятна: сила Елизаветы – гвардейской кумы – состояла в том, что она была дочерью Петра Великого, которую – по мнению гвардейцев – несправедливо отстранили от престолонаследия, отдав трон Брауншвейгской фамилии. И Миних, увидав толпы гвардейцев во дворце Елизаветы, вполне это оценил.
Недовольство слабым режимом правительницы сочеталось у гвардейцев с идеализацией Петра Великого – (строгого, но справедливого, радевшего о благе подданных государя – не то что ничтожества, толпившиеся у трона Ивана Антоновича!). Идеализация эта в полной мере распространялась и на его дочь, в которой гвардейцы видели прямую продолжательницу великого, но ныне заброшенного дела Петра. Дошедшие до нас списки участников переворота показывают, что почти треть гвардейцев отряда Елизаветы начала службу при Петре Великом. К 1741 году это были пятидесятилетние, убеленные сединами ветераны, чьим рассказам о славных летах, проведенных рядом с великим царем, о белокурой девочке – его любимой дочери, выросшей на их глазах, жадно внимали молодые солдаты: среди участников переворота их было 120 человек, то есть больше трети. Все они были взяты в гвардию в конце царствования Анны Иоанновны. Придумал это Бирон. Опасаясь дворянских вольнодумцев в гвардейских мундирах, временщик начал обновлять гвардию за счет рекрутов из крестьян и других «подлых». Именно сочетание удальцов-ветеранов и необстрелянных наивных юношей, смотревших им в рот, и стало горючим материалом переворота. Искру в него бросила Елизавета, самолично явившись к гвардейцам – своим кумовьям.
Как маркиз Шетарди руководил заговором
В истории революции 25 ноября 1741 года есть одна страница, о которой Елизавете всегда хотелось забыть. Речь идет об активном участии в заговоре иностранных держав в лице французского посланника в России Иоахима Жана Тротти маркиза де ла Шетарди и шведского посланника Эрика Матиаса Нолькена. Французский дипломат, прибывший в Россию в 1739 году, имел от Версаля конкретное задание: разрушить русско-австрийский союз 1726 года, серьезно укреплявший позиции давнего врага «христианнейшего» короля Людовика XV – Австрии, или, как тогда говорили, Империи. Добиться этого можно было лишь путем смены проавстрийского правительства Анны Леопольдовны.
Ту же цель ставил перед собой и Нолькен. В Стокгольме были очень сильны реваншистские настроения. Шведским правителям казалось, что при ослаблении власти в России и при первом волнении в Петербурге можно добиться пересмотра Ништадтского мира 1721 года и возвращения Швеции Восточной Прибалтики. Нолькен и Шетарди начали вести подрывную работу: искать и поддерживать те силы, которые были бы в состоянии свергнуть правительство Анны Леопольдовны. И вот осенью 1740 года Нолькен первым вышел на Елизавету, и она вступила с ним в переговоры, точнее – в недостойный ее, дочери Петра Великого, политический торг.
Нолькен предложил ей простой и ясный план: цесаревна подписывает обращение-обязательство к шведскому королю с просьбой помочь ей взойти на престол, король начинает войну против России, наступает на Петербург и тем самым облегчает переворот в пользу Елизаветы. Для исполнения плана он дает Елизавете сто тысяч экю, а она обещает, в случае успеха предприятия, удовлетворить все территориальные претензии Швеции. Цесаревна была на все согласна, но просила выдать ей вперед деньги, в которых, как всегда, очень нуждалась. Нолькен настаивал на обратном варианте – сначала письменное обязательство, а потом деньги. Елизавета не возражала, была готова тотчас подписать нужную бумагу, но деньги просила выдать раньше. За этим бесплодным спором и застал заговорщиков Шетарди, пронюхав у Нолькена о честолюбивых намерениях цесаревны. Он сразу же ввязался в интригу и начал действовать.
Сделаем небольшое отступление. В действиях Нолькена и Шетарди был, конечно же, криминал, но участие иностранных дипломатов в интригах при дворе своей аккредитации в те времена было явлением обычным. Можно написать целую сагу о том, как русские посланники золотом устилали дорогу для угодных России ставленников в Польше, Швеции и других странах. И вообще, редкий международный трактат не содержал тайных статей о вмешательстве высоких договаривающихся сторон во внутренние дела третьих стран. Нолькен и Шетарди не были благородным исключением из этих грязных правил.
Шетарди, в отличие от осторожного Нолькена, денег для цесаревны не жалел, он не на шутку увлекся заговором, мысля себя его движущей силой, главным, как бы теперь сказали, координатором. Маркиз был по природе своей человеком пылким, романтичным, но легкомысленным и глупым. Условные знаки, пароли, записки, передаваемые во время менуэта или котильона, плащи, ночная тьма, переодевания – весь этот пошлый набор заговорщицкой атрибутики пошел в ход. Как пишет мать Екатерины II, княгиня Иоганна-Елизавета, свидания заговорщиков «происходили в темные ночи, во время гроз, ливней, снежных метелей, в местах, куда кидали падаль», то есть на помойках. Соглядатаи регулярно сообщали начальству о том, как французский посланник тайно, по ночам, огородами пробирался во дворец Елизаветы, но явно «не для амуру».