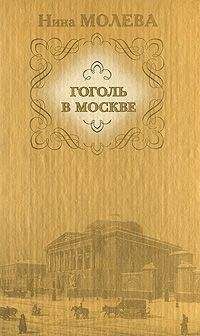Любовь! Если бы любила, уехала бы в деревню, тем более с детьми. Тем более амуры пошли. Знала, добром не кончится, только к сердцу ничего не принимала».
Я не мог удержаться от любопытства. Все знали, как хорошо была знакома с поэтом Мария Дмитриевна. И здесь ее неожиданная откровенность позволила узнать какие-то неизвестные подробности. Я почти робел с моим вопросом, была ли она на последней квартире поэта. Мария Дмитриевна ответила утвердительно: хотя и после его кончины, вместе с Жуковским.
«Да, так я о квартире. Неудобная ни для приемов, ни для работы. Надо же было додуматься: рядом с кабинетом детская. В доме сестры жены. Жалованье царское за „Пугачева“ прекращено. Литературные заработки – кот наплакал. С имения все хотели что-нибудь да иметь: отец, братец, сестрица. Он же перед новым годом отцу признавался: не в состоянии всех содержать. Я тогда его увидела: старый, седина пошла, морщины. Это у Александра Сергеевича! Взгляд затравленный. Посторонние сочувствовали. Из деликатности молчали. Не помог никто… Умирал – у дверей толпа стояла, бюллетень о здоровье на бумажке вывешивали, чтобы не беспокоили. А у дивана родных никого. Вы только почувствуйте, жена в соседней комнате конца дожидалась! Не беспокоили, видите ли, ее. Не беспокоили! А вокруг него, как в театре, Василий Андреевич, граф Виельгорский, незадавшийся тесть Гоголя, Даль, княгиня Вяземская, доктор и Александр Иванович Тургенев. При них дух испустил. Кто они ему, кто, если он из-за дурной жены погиб! Господи! Ведь его сразу в прихожую вынесли, чтобы народ прощаться мог и вдовы бы не беспокоил. В прихожую! Там беспокойства для семейства меньше.
А потом – потом перед Конюшенной церковью гроб для прощания выставили. Николай Васильевич прямо счастливец выходит: как-никак университет и вся Москва. Хоть и позднее, все равно душе утешение.
Александра Сергеевича в Святые горы никто из родных провожать не поехал. Понимаете, баба простая и та бы от гроба мужа не оторвалась. Любила – не любила, а ведь четверых детей родила, и чтобы не проводить в последний путь? Посторонний человек, Александр Иванович Тургенев, поехал, а к гробу на дровнях всю дорогу, прижавшись, дядька ехал. Его слезами дорога омыта была, его одного.
Тяжело слушать? Да ведь и это еще не все. Все вещи вдова тут же на склад отправила. Чтобы не мешались. Чтобы ничего не напоминали. Один только рабочий стол, спасибо, Вяземский забрал, а диван – его последний, единственный, – на складе то ли потеряли, то ли продали. Жена первый раз на могилу через два года приехала, и то по делам имения – о деньгах позаботиться. Вот видите, а я Толстых обвинять стала. Они-то мне говорили, сочинений гоголевских и вовсе не читали. Не нужен он им был, не нужен! Вот и мыли окна в январский мороз. Не по-людски, не по обычаю. Да и какие у них обычаи – только и заявляли себя православными за границей, дай Бог, чтобы русский язык знали. Не случайно графиня хвасталась Священным писанием на французском языке. Так ей понятней».
Я попытался сказать, что графиня не очень здоровый по натуре человек, боится инфекций, поэтому и судить ее трудно. Мария Дмитриевна досадливо отмахнулась и снова вернулась к окну.
«А потом его окна перестали зажигаться. Кто-то рассказал, что больного перенесли в другую комнату, тоже на первом этаже. Будто бы подальше от любопытствующих. Вернее сказать, сочувствующих. У Пушкина вон бюллетени вывешивались, а здесь все потихоньку, все за закрытыми дверями. То ли болен, то ли не болен. То ли хуже ему, то ли поправляться стал. Студенты толпами по бульвару ходили: может, что-то удастся узнать.
Не знаю, куда перенесли, но только на первом этаже больше по вечерам свет нигде не горел. Наверно, окнами в другую сторону пристроили. Просто сердцем никто за него не болел. Заезжали наверняка, справлялись да и уезжали по своим делам. Ведь он же это чувствовал. Как чувствовал… Одиночество. И безденежье. Ведь даже докторами распорядиться сам не мог: все за хозяйский счет.
А ведь на деле дорог он был многим. Михайла Семенович убивался, что, если бы у него его старый дом в Большом Спасском был, он бы уговорил Гоголя к себе переехать. Домашние бы его выходили, непременно выходили. Только он теперь на съемной квартире. Теснится кое-как, последние гроши взрослым сыновьям рассылает. Воля жены, ничего не сделаешь. Больше всего увольнения боится. Начальство все его контрактом пугает: стар будто бы, не нужен становится. Страшно ему как!
Но я не о том. В первую же ночь, когда гроб в университетской церкви поставили, народу для прощания только часам к десяти вечера поубавилось. Остались псаломщики и студентов шестеро, чтобы сменяться у гроба. А тут карета у подъезда остановилась. Вошла женщина вся в черном, под густой вуалью. Подошла к гробу, приложилась ко лбу покойного, руку у него поцеловала, да так и осталась стоять, опершись о край, до самого утра. Нет-нет вуаль откинет, снова покойного поцелует и снова, как статуя, стоит… Только когда утренняя смена причетников пришла, еще раз с Николаем Васильевичем простилась и пошла, словно во сне, шаг за шагом.
Двое студентов кинулись поддержать, помочь по лестнице сойти. Она помощь приняла, кивком поблагодарила. А когда дверь подъезда распахнули, перед ней – карета с гербами. Евдокия Ростопчина… Что в душе ее творилось, не нам судить, а выходит одна проводила Николая Васильевича по-человечески. Одна!»
Из литературных воспоминаний И. С. Тургенева «В последних числах февраля месяца следующего 1852 года я находился на одном утреннем заседании вскоре потом погибшего общества посещения бедных в зале Дворянского Собрания, – и вдруг заметил И. И. Панаева, который с судорожною поспешностью перебегал от одного лица к другому, очевидно, сообщая каждому из них неожиданное и невеселое известие, ибо у каждого лицо тотчас выражало удивление и печаль. Панаев, наконец, подбежал и ко мне – и с легкой улыбочкой, равнодушным тоном промолвил: „А ты знаешь, Гоголь помер в Москве. Как же, как же… Все бумаги сжег – да помер“, – помчался далее. Нет никакого сомнения, что, как литератор, Панаев внутренно скорбел о подобной утрате – притом же, и сердце он имел доброе – но удовольствие быть первым человеком, сообщающим другому огорошивающую новость (равнодушный тон употреблялся для большего форсу) – это удовольствие, эта радость заглушали в нем всякое другое чувство. Уже несколько дней в Петербурге ходили темные слухи о болезни Гоголя; но такого исхода никто не ожидал. Под первым впечатлением сообщенного мне известия я написал следующую небольшую статью:
Письмо из Петербурга
Гоголь умер! – Какую русскую душу не потрясут эти два слова? – Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит, наконец, свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпеливые ожидания, – пришла эта роковая весть! – Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших! – Он умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников… Его утрата возобновляет скорбь о тех незабвенных утратах, как новая рана возбуждает боль старинных язв. Не время теперь и не место говорить об его заслугах – это дело будущей критики; должно надеяться, что она поймет свою задачу и оценит его тем беспристрастным, но исполненным уважения и любви судом, которым подобные ему люди судятся перед судом потомства; нам теперь не до того: нам только хочется быть одним из отголосков той великой скорби, которую мы чувствуем разлитою повсюду вокруг нас; не оценять его нам хочется, но плакать; мы не в силах говорить теперь спокойно о Гоголе… самый любимый, самый знакомый образ неясен для глаз, орошенных слезами… В день, когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда руку – соединиться с ней в одном чувстве общей печали. Мы не могли взглянуть в последний раз на его безжизненное лицо; но мы шлем ему издалека наш прощальный привет – и с благоговейным чувством слагаем дань нашей скорби и нашей любви на его свежую могилу, в которую нам не удалось, подобно москвичам, бросить горсть родимой земли! – Мысль, что прах его будет покоиться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоится там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил, так горячо любил, что одни легкомысленные или близорукие люди не чувствуют присутствия этого любовного пламени в каждом им сказанном слове! Но невыразимо тяжело было бы нам подумать, что последние; самые зрелые плоды его гения погибли для нас невозвратно – и мы с ужасом внимаем жестоким слухам об их истреблении…