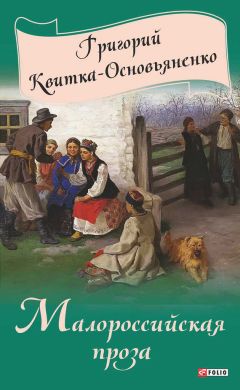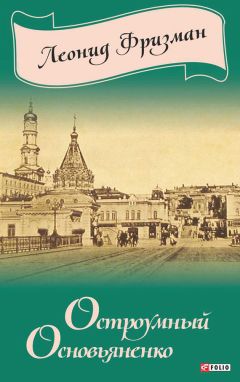Но, оставляя в стороне всю мою ссору с братом Петрусею и все, что вытерпливал я от теперешней его штучки, скажу аккуратно, что этакий пассаж могла произвести только его голова. Разберите в тонкость, сколько тут необыкновенного ума! Уверяю вас, что он и ногою не был в Санкт-Петербурге, а какова его хитрость, а? Приватно уверяю вас, что жилец санктпетербургский, родившийся и взросший в этом хитром городе, едва ли бы выдумал такую интермедию! Это прелесть сколько ума! Конечно, действие злое, но очень хитрое, и при всем том он имел законное право так поступить. Низ, то есть нижний этаж, есть его собственность.
Мою досаду сменила справедливость, а потом, как будто в чужом теле, взял смех, видя, в каком жалком положении мы остаемся.
Брат Петрусь продолжал издеваться над моим положением и преспокойно предлагал мне спрыгнуть сверху. Но, оставив его шуточки, я начинал опасаться, если не придумаю ничего к нашему исходу, что последует с нами? Как вот явились мой новый батенька, без всякого убранства, и над местом, где была лестница, стали, опусти руки и свеся голову вниз, с всею готовностью посвистать от такого необыкновенного казуса.
Вскоре явился и наш женский пол, осужденный вместе с нами на бедствия. Это были жена моя и маменька ее. Они не могли выговорить ни слова, но плакали тихо, а охали громко!..
Новый мой батенька, кажется, стояли просто, но изобрели решимость. Они с большою запальчивостью начали кричать на брата Петруся, все внизу стоявшего и утешавшегося нашим неописанным мучением.
— Ты изверг… ты убийца… ты умышляешь на жизнь нашу… ты расстраиваешь здоровье наше!.. — Во множестве собравшаяся от бешенства во рту их пена не позволила им объяснить дело в подробности.
А Петрусь префлегматично стоял себе внизу, хохотал и только знал, что на все наши требования и оханья прекрасного пола отвечал: "А мне что за дело?.. мне все равно… мне нужды нет!.."
Наконец, новому моему батеньке, по сродному им благоразумию, которого у них, правду сказать, была куча, пришла, из сожаления к нам и собственно к себе, счастливая мысль: поддобриться к брату и поддеть его разными хитростями, чтобы дал способ свободно сходить сверху.
Сколько ни подпущал Иван Афанасьевич разных ему лестей, сколько ни упрашивал, как ни сильно доказывал, что он это делает нехорошо, глупо, подло и бесчестно, но Петруся ничем не урезонил; наконец, сказал ему: "Ну, возьми с нас хотя деньги, только устрой сообщение".
Брат Петрусь обрадовался этому — и начался торг. Как, впрочем, ни шумели, как ни настаивали новый мой батенька, чтобы Петрусь что-либо уступил, но не успел ничего, и Петрусь не отступил от своего требования: уничтожить бумагу, по которой он должен мне уплатить несколько тысяч за доходы, им полученные. Дорого, правда, обходилась нам свобода; но я, если бы Петрусь потребовал, я бы и один из хуторов придал ему за свободу.
Что делать? Мы находились в самых стесненных обстоятельствах. Долго споря и ссорясь, решили мы с батенькою разорвать вексель Петрусин; но для этого надо было сделать условия, обеспечивающие нас во всех предметах. Полдень приближался, гости скоро начнут приезжать, а у нас ничего не распоряжено, и мы не только не завтракали, но и горячего не пили. Для уничтожения этих неприятностей, мы, бывшие в осаде, объявили осадившему нас Петрусю, что сдаемся на условия, им предложенные, но для приведения всего в ясность нужно Ивану Афанасьевичу слезть вниз и кончить все дело.
Приставили лестницу и по ней, как условлено было, спустили одного Ивана Афанасьевича. Брат Петрусь дал обязательство немедленно уставить лестницу, как и была она, и во все время бала и даже никогда не снимать ее и, одним словом, не причинять нам и гостям нашим никакого беспокойства. Тогда уничтожен был и его вексель.
Лестницы, которые не были разорены, а только разобраны, мигом поставили и уладили, и мы скоро имели удовольствие воспользоваться свободою; но чего нам это стоило? Беспокойство замучило меня, если все не устроится к приезду гостей! Принявшись, однако же, со всем усердием за распоряжения, я уладил все прежде, нежели начали съезжаться гости.
Никто не отказался от приглашений, и экипажи поминутно въезжали и разводимы были по квартирам, прежде для каждого семейства назначенным. Там они, вырядившись, вечером собрались к нам и время проводили в приятных разговорах.
Как хозяин, я обязан был заводить разговоры, чтобы не скучали гости. Любимейшею и твердою матернею было у меня — вояж мой в Санкт-Петербург, и я немедленно начинал описывать его от самого дому, чрез каждую станцию, до самой столицы. О тульском и некоторых других пассажах, постигших меня даже в Санкт-Петербурге, я умалчивал; зато уже санктпетербургскую жизнь, и в особенности театры, объяснял гостям со всем моим красноречием и всем петербургским штилем, примешивая часто модные слова. Признаюсь, весело было моему честолюбию рассыпаться в рассказах того, что никто из моих гостей не слыхал и о чем понятия не имел. Все они слушали меня, разинув рты, а некоторые и дремали.
Так удовольственно проведя вечер и поужинав не парадно, расстались до утра. Надобно сказать, что все гости сделали мне честь, пожаловав со всеми деточками малейшими и даже грудными. Кроме гостей, должно было угостить и всех кормилиц, мамушек и нянюшек привезенных детей, прислужниц разных и всякого народа.
А сколько было гостиных лошадей? иные забрали все свои конюшни, привезли даже и заводских жеребцов, под предлогом похвастать ими на таком съезде. Эти три дня угощения, конечно, равнялись с трехгодовою жизнию обыкновенного помещика. Но нечего было делать: обычаев нам переменять не должно. А сколько собственно мне было хлопот! Моя возлюбленная супруга не вмешивалась ни во что; все занималась своими нарядами и мало сидела с гостями: посидит, посидит, да и уйдет понежиться, как говорила она, полежать. Она уже начинала чувствовать себя нездоровою. Везде я один хлопотал.
После рассылки по квартирам каждому семейству транспортов чаев и кофеев, гости, разряженные в пух, вовсе не по-санктпетербургски, а каждая по своему вкусу, собрались на бал.
Не успел окончиться огромнейший завтрак, как поспел и обед. Убил меня, собачий сын, этот выписной повар своим обедом! Кроме чрезвычайных издержек, послушайте, сколько было мне конфузу.
Когда отворил дверь в столовую, то подлинно пышность и нарядство стола изумило всех. Что правда, то правда. Что хорошо, не потаю и не похулю. Я на правду — чорт! Представьте себе длинный стол, покрытый чистыми скатертями, уставленный восемьюдесятью приборами, украшенный карафина: ми с разноцветными винами, и все в пестроту. Картина чудесная! Но посреди стола… вот штучка! была сделана зеленая гора, изукрашенная разными цветочками, а на верху этой горы чашечка, а из этой чашечки бьет красное вино струею вверх на поларшина. Это удивление, да и полно! Пожалуйте же, это еще не все.
У подножия этой горы посажены были две куколки, мужчина и женщина; он на нее возлагает венок, а она на него возлагает такой же, и обе эти куколки смотрят друг другу в глаза и улыбаются. У ног мужчины был вензель Т. X.. а у ног женщины — А. X. Мужчина изображал меня, Трофима Халявского, а женщина представляла жену мою, Анисью Халявскую. Сверх же нас, то есть куколок, представляющих нас, чорт его знает, как он умудрился, невидимо за что, укрепить и повесить божка Амура, державшего над нами пылающие сердца. А сказать правду, этот плут, растравивши наши сердца, давно улетел от нас. Но все-таки мысль была богатая и чудесно устроена.
Этого мало. По концам стола стояли две стеклянные банки, завязанные золотою бумагою. Но что в банках было? Прелесть. Вода, правда и простая, но в этой воде плавало несколько живых разных рыбок. Премило было смотреть ка это украшение.
Затем стол был установлен двумя чашами горячего, шестью блюдами с разными холодными, двенадцатью соусниками, шестью разными жаркими и к ним солеными овощами, а в заключение красовалось четыре пирожных. Все это, уставленное симпатически, делало вид превосходный, возбуждающий к еде.
Когда вошли в залу, я просил дорогих гостей, как всех равно для меня милых и почтенных, усаживаться за стол по старшинству лет. Пусть — думал я — считаются между собою сколько угодно, а мое дело сторона. Не окажу преферансу ни свату, ни брату, и претензий не будет на меня. Пошли старички и старушки между собою пересаживаться, а холостые, приношенные мужчины, имеющие еще греховные помышления, склоняющие их к браку, те садились так, середка на половине, к старикам не доходили и от молодых не отставали. Девушки же, так те, без зазрения совести, бежали на самый конец и старались захватить последние места.
— И выкинул же штучку хозяин! — говорил один гость другому, не видя меня, идущего за ними. — Уж как ловко распорядил.
— Видно, что был в Петербурге, — отвечал ему товарищ его.