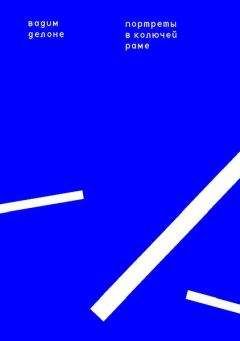Ознакомительная версия.
Мы заранее знали, что будет.
Мы не питали никаких надежд увидеть своих товарищей. Нас привела сюда прежде всего тревога за их судьбу, и мы были готовы стоять на улице долгие часы в ожидании хоть какой-нибудь крохи информации. Все, что занимало нас до этого, – ну хотя бы мысль о том, должны ли были наши товарищи идти на заведомое самопожертвование, отлично зная практическую безрезультатность своего шага, – все, что могло породить правомерный еще вчера, в достаточной степени выстраданный спор, отошло на задний план, стало неуместным перед фактом: за наглухо закрытыми для нас дверьми решается участь близких нам людей.
Мы уже были приучены к цинизму и бесстыдству работников КГБ, судебной администрации. Мы готовы были сносить неотступную слежку, фотографирование. Но на этот раз нас ждали новые испытания, новый горький опыт, и мы обязаны рассказать об этом.
Обязаны в первую очередь перед людьми, которые приговором этого суда отправлены в лагерь или ссылку. Быть может, это уменьшит досужие рассуждения о бесперспективности, безрезультатности таких поступков, как демонстрация. Быть может, это кому-нибудь поможет оценить душевное величие пустынных сеятелей понятий чести, порядочности и достоинства среди массовой «всегдаготовности» к разгулу зоологических страстей.
Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств,
ни лишней совести…
М. Е. Салтыков-Щедрин. «Вяленая вобла»
Итак, все, что мы предвидели, случилось. Нам «не хватило» мест в зале: они были заняты людьми, которые проходили в здание с черного хода, по специальным пропускам.
По инициативе П. Г. Григоренко было составлено письмо с требованием допустить друзей подсудимых в зал суда. Вот тогда-то и обозначились будущие герои этих заметок.
Откуда-то появились люди в спецовках, и на наши головы посыпалось пока еще не очень энергичное, но достаточно цветистое арго. Делалось это довольно лениво: может быть, «рабочий класс» берег силы для предстоящих баталий. Просто в спину гуляющих раздавались пустяковые угрозы, услащенные матом. Кто-то бросился открывать глаза этим «простым труженикам». Можно было с самого начала этого не делать: рядом с ними стоял хорошо нам известный в лицо человек в светлом плаще и время от времени давал им негромкие указания. Несколько дней назад человек этот производил обыск в моей квартире. Руку, дергающую марионеток за ниточки, мог разглядеть каждый, кто хотел видеть. Но по неистребимой вере в магию человеческого слова мы иногда становились невольными участниками этого спектакля…
Между тем под письмом, написанным по предложению Петра Григорьевича, успели поставить подписи около четырех десятков людей. И желающих подписаться было еще достаточно.
Напротив двери суда находилась веранда – место, где разыгрались некоторые колоритные сцены предстоящего трехдневного спектакля. На этой веранде, вокруг стола, толпилось множество людей. Разобрать, кто с какими намерениями пришел к суду и стоял сейчас здесь, было трудно, да никто и не пытался разобраться. Это потом многим из нас казалось, что люди, избравшие своим призванием сыск, донос, провокацию, несут неизгладимый отпечаток. Но один из этих людей был известен давно.
Большинство из нас помнило его с прошлой зимы, с процесса Гинзбурга и Галанскова, некоторые – с процесса Синявского и Даниэля. Тогда, два с лишним года назад, он еще пытался играть «своего», заводил провокационно храбрые речи: «Подумать, – восклицал он, – писателей судят! Где еще это возможно?!» – но ни речами, ни обликом никого не провел. В облике его решающую роль, видимо, должна была играть черная бородка – маска «интеллигента». На зимнем процессе 1968 года его узнали в первый же день, и он не стал вести игру. Он лихо возглавлял толкавшихся там «мальчиков» – дружинников? оперотрядчиков? платных осведомителей? – за отсутствием повязок и иных опознавательных знаков проще всего называть их общепонятным термином «стукачи». Часть времени он проводил в зале суда и потом, изображая «просто человека из публики», любезно информировал иностранных корреспондентов о ходе судебного заседания. Впрочем, они, по-видимому, не хуже нас понимали, кто он, и соответственно оценивали его информацию.
В разгар сбора подписей этот человек выхватил письмо и разорвал его. Он тут же был окружен возмущенной толпой. Диалог был примерно таков:
Из толпы: Это хулиганство, и вы за это ответите. Свидетелей много.
Из толпы: Надо пригласить милицию.
Человек с бородой: Это не хулиганство: я точно так же, как вы, хотел подписать письмо.
Из толпы: С этой целью вы его и разорвали?
Один из стукачей: Он его не рвал.
Человек с бородой: Я его не рвал. (Обращаясь к П. Г. Григоренко:) Вы сами его порвали.
П. Г. Григоренко: Это ложь.
Из толпы: Это ложь. Мы – свидетели вашего хулиганства.
Из сбивчивого и несколько надрывного диалога выясняется, что этот человек – не то представитель горкома комсомола, не то случайно оказавшийся здесь инженер, «Александров Олег Иванович».
«Александров»: Я хотел подписать ваше письмо и внести в него изменения, потому что у вас нет классового чутья.
Оставим в стороне терминологию, хотя трудно себе представить, чтобы это собачье свойство – чутье – было частью человеческого достоинства и убеждений. Но в этом высказывании была еще и наглость, с которой молодой провокатор преподавал урок политграмоты генералу, прошедшему войну, признанному и образованному теоретику, человеку стойких коммунистических воззрений (в отличие от некоторых из нас).
Похоже, что, оказавшись почти в одиночестве среди нескольких десятков возмущенных людей, «Александров» почувствовал себя несколько затравленным. Не исключено, что события второго дня отчасти были вызваны именно невозможностью безнаказанно творить провокации при таком соотношении сил.
Подтвердить свою личность документами «Александров» отказался. Уклонился от проверки документов и дежуривший у здания суда милиционер, к которому обратились с этой просьбой. В конце концов, по совету этого же милиционера, довольно большая толпа людей отвела «Александрова» в ближайшее отделение милиции. Вслед за толпой потянулись и стукачи.
Работники отделения милиции уже ожидали толпу перед входом и, угрожая наказанием, потребовали немедленно разойтись. «Александров» был пропущен беспрепятственно. Через некоторое время вызвали Петра Григорьевича, затем еще двух свидетелей.
В ожидании исхода дела (правда, исход ни у кого не вызывал сомнений – просто никак нельзя было оставлять Петра Григорьевича одного среди этой публики) пришедшие обменивались впечатлениями и репликами. Уже становилось более или менее понятно, кто есть кто. Внезапно разговором овладел очень молодой на вид человек, который представился студентом экономического факультета МГУ Степановым и был готов даже показать студбилет. Говорил он вежливо, но лгал – примерно так: «Я человек никак не заинтересованный… я случайно узнал в университете и пришел… я случайно присутствовал при инциденте… никто не вырывал бумаги, кто-то из вас разорвал ее… меня интересует только истина…» и т. п. Возможно, этот человек был действительно студент и действительно Степанов. Тем грустнее, что из среды университетского студенчества вербуются филёры. А что учеба в МГУ для этого студента была занятием не самым главным, мы убедились очень скоро.
Никаких неожиданностей в милиции не произошло. У «Александрова» при себе не оказалось документов, всех просили разойтись, а его оставили для выяснения личности. Очень скоро, минут через 15—20, он пошел к зданию суда и, уже не таясь, приступил к своим сыскным обязанностям. Неудавшаяся роль простого инженера была исчерпана.
Возле здания прибавилось так называемых «людей от станка». Простой задушевный мат все чаще оглашал старый московский переулок. Особенно усердствовал один из них, в очках, с доверительным испитым лицом. Какую-то особую ненависть эти люди испытывали к носителям бород (впрочем, не к «Александрову», тут, видимо, срабатывало «чутье»). Человек в очках пригрозил одному из бородачей: «Мы вас побреем». Эта изысканная шутка имела успех и потом уже все три дня не сходила с уст «народных представителей».
Еще было далеко до конца. Люди собирались группками, вели беседы, там и сям возникали споры. Обстановка была достаточно миролюбивой, хотя прибывающие «рабочие» вносили некоторую свежесть в чисто теоретические разговоры. Например, не лишено остроты было их ходовое обвинение: «Почему вы не на работе, а здесь?» Спрашивать их о том же было бесполезно.
Попытки затеять скандал в этот день были обречены на провал. Надо думать, что, когда «рабочий класс» оскорблял кого-то, делалось это не без расчета на возмущенный ответ, на перепалку. Но на провокации никто не реагировал. Один из присутствующих нечаянно наступил на неубранный совок с осенними листьями. Люди в спецовках мгновенно окружили его и попытались устроить шумный скандал. Человек отошел, пожимая плечами, и «рабочие» остались наедине друг с другом.
Ознакомительная версия.