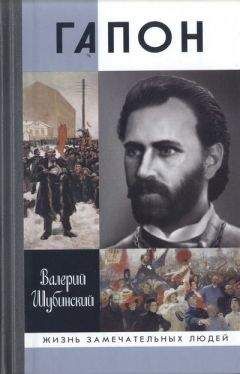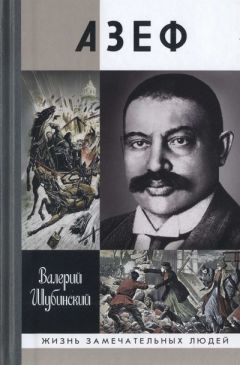Впрочем, гораздо больше волновал их сам факт «внепланового», никак ими не подготовленного и не возглавляемого пробуждения пролетариата. Особенно волновались многочисленные женевские социал-демократы, среди которых были и прославленные ветераны русского марксизма (Плеханов, Засулич, Дейч, Аксельрод — вся так любимая советскими студентами группа «Освобождение труда», кроме давно умершего Игнатова), и люди из будущего (Ленин, Троцкий, Луначарский). Все они толкались в партийной столовой, которую держали супруги Лепешинские, Павел и Ольга (да, та самая сумасшедшая старушка, которая в 1840-е годы с помощью грязного микроскопа открыла «живое вещество», — пока еще вполне молодая эсдечка с фельдшерским дипломом). На митингах большевики и меньшевики, мэки и бэки, произносили речи по-русски, по-французски и по-немецки и выясняли между собой отношения, хотя спорить, в сущности, было не о чем — все оказались в одинаково нелепом положении.
Загвоздкой был Гапон. Кем надлежит считать его — «провокатором» или героем? Уже в первые дни после Кровавого воскресенья Владимир Ильич Ульянов (В. Ленин), лидер бэков, всерьез задался этим вопросом. В статье «Поп Гапон» он пишет: «…Наличность либерального, реформаторского движения среди некоторой части молодого русского духовенства не подлежит сомнению… Нельзя поэтому безусловно исключить мысль, что поп Гапон мог быть искренним христианским социалистом, что именно кровавое воскресенье толкнуло его на вполне революционный путь». Это не противоречит тому, что само шествие — правительственная провокация: Гапон мог быть ее бессознательным орудием. И тем не менее к нему, как «зубатовцу», необходимо «осторожное, выжидательное, недоверчивое отношение». Диалектика!
Статья напечатана в газете «Вперед» 18 января. Однако между 9 и 18 января настроение Ильича изменилось, и в том же номере той же газеты напечатана статья «„Царь-батюшка“ и баррикады», в которой о Гапоне говорится, что он выразил «уровень знаний и политического опыта рабочей массы», ныне, после трагических событий, проникшейся классовым самосознанием и «готовой идти на восстание». Вопрос об искренности вождя 9 января «могли решить только развертывающиеся исторические события, только факты, факты и факты. И факты решили этот вопрос в пользу Гапона». Теперь Ленин сравнивает Гапона с пастором Стивенсом, одним из вождей чартистов.
Другие эмигранты тоже готовы были радостно принять экс-священника в свои ряды.
И притом — получилось так, что первые сутки в Женеве Гапон провел буквально на улице! Опять же история запутанная. Будто бы у него было имя некоего лица, к которому он должен обратиться в Женеве, но не было адреса, и он, не зная иностранных языков, не мог самостоятельно найти этого человека. По другим сведениям (а все сведения восходят к рассказам самого Георгия Аполлоновича), добраться-то до «явки» он добрался, но там ему не поверили, приняв за шпиона.
В конце концов он нашел какую-то русскую читальню и там узнал адрес Плеханова. И вот в один прекрасный день (где-то между 10 и 15 февраля по европейскому календарю) в квартиру лидера социал-демократической партии постучал незнакомец и категорически потребовал впустить его, хотя Плеханов болел. Гапона долго отказывались впускать. Через полчаса, после долгих уговоров, незнакомец назвал свое имя — это решило всё.
Его приняли с восторгом. Плеханов немедленно позвал своих товарищей-мэков: легендарную Веру Засулич, Павла Аксельрода, державшего в Женеве, как специально указывают Брокгауз и Ефрон, кумысное заведение, Дейча, из воспоминаний которого все это известно, а также более молодых Потресова и Федора Дана. Все чествовали народного героя. Растроганный расстрига на радостях объявил себя социал-демократом и разрешил передать весть о своем обращении в прессу и «написать Каутскому». Все же он обратил внимание на не в меру «роскошную» (на его взгляд и по его критериям) обстановку, в которой жил лидер русских социал-демократов. Видимо, он ожидал другого.
Гапона поселили в общежитии для сотрудников «Искры» у Дана. Таковы сведения Дейча; агенты Департамента полиции доносили, что Гапон живет у Аксельрода. Позднее он ворчливо рассказывал, что эсдеки три дня «держали его взаперти» и обрабатывали. Так или иначе, продолжалось это недолго: Рутенберг наконец догнал Гапона и извел его из социал-демократического плена. Гапон заявил, что его долг — оставаться нейтральным и беспартийным, и переехал к эсеру Л. Э. Шишко.
По словам Семена Акимовича Ан-ского (Раппопорта), эсера, более известного как выдающийся еврейский этнограф и писатель, автор имеющей большую сценическую историю пьесы «Дибук»[39], Шишко, «человек болезненный, всецело поглощенный литературными занятиями, жил в большом уединении, в дачном домике-особняке на безлюдной улице на окраине города. Кругом на большом расстоянии не было других строений. Таким образом, самый искусный сыщик не мог бы следить за этим домом, не будучи тотчас замеченным. Это-то и побудило поместить здесь Гапона, которого в то время тщательно скрывали, отчасти из опасения, чтобы швейцарское правительство его не выдало России, а главным образом из боязни покушения на его жизнь со стороны „наемного мстителя“».
Гапон, которого эсдеки заставляли читать серьезную политико-теоретическую литературу, в доме у Шишко начал учиться стрелять — и это увлекало его гораздо больше. Принципиально отказываясь разбираться в партийных программах, он видел человеческое различие между эсдеками и эсерами — и вторые нравились ему больше: люди дела. Как раз в то время в Женеву приехал легендарный террорист «Павел Иванович» (настоящее его имя было Борис Викторович Савинков). Гапон с восторгом познакомился с ним и, по свидетельству Савинкова, был единственным, кто поздравил его «с великим князем Сергеем». Савинков был одним из технических организаторов убийства московского губернатора, самого непопулярного из Романовых, которое произошло 4(17) февраля (непосредственным исполнителем был Иван Каляев, арестованный на месте и казненный). Савинкову Гапон понравился. «Он казался мне, по впечатлению 9 января, человеком необычайных дарований и воли, тем человеком, который, быть может, единственно способен овладеть сердцами рабочих… Более близкое знакомство подтверждало предвзятое мнение об его дарованиях. У него был живой, быстрый, находчивый ум; прокламации, написанные им, при некоторой их грубости, показывали самобытность и силу стиля; наконец, и это самое главное, у него было большое, природное, бьющее в глаза ораторское дарование».
В последнем Савинкову однажды пришлось убедиться — вот при каких обстоятельствах:
«Один из поволжских комитетов российской социал-демократической партии издал прокламацию, в которой о Гапоне грубо упоминалось как о „нелепой фигуре обнаглевшего попа“. Прокламацию эту кто-то принес на совещание. Гапон прочел листок и внезапно преобразился. Он как будто стал выше ростом, глаза его загорелись. Он с силой ударил кулаком по столу и заговорил. Говорил он слова, не имевшие не только никакого значения, но не имевшие и большого смысла. Он грозил „стереть социал-демократов с лица земли“, показав „всем рабочим лживость их и наглость“, бранил Плеханова и произносил разные другие, не более убедительные фразы. Но не смысл его речи производил впечатление. Мне приходилось не раз слышать Бебеля, Жореса, Севастьяна Фора. Никогда и никто из них на моих глазах не овладевал так слушателями, как Гапон, и не на рабочей сходке, где говорить несравненно легче, а в маленькой комнате на немногочисленном совещании, произнося речь, состоящую почти только из одних угроз. У него был истинный ораторский талант, и, слушая его исполненные гнева слова, я понял, чем этот человек завоевал и подчинил себе массы».
Надо сказать, что подобное впечатление сложилось далеко не у всех. Многие, наоборот, поражались тому, как неуклюж и косноязычен становился знаменитый трибун и проповедник в непривычной для него интеллигентской среде. Ан-ский, например, утверждает:
«Гапон не только не обладал ораторским талантом, но прямо-таки не умел „двух слов связать“. Говорил сбивчиво, заикаясь, повторяя по два-три раза одно и то же слово, одну и ту же фразу. Большей частью трудно было даже сразу понять, что он хочет сказать… И, тем не менее, в его речах было „нечто“, что производило впечатление, даже захватывало. Помимо того, что из вороха спутанных, часто нелепых и шаблонных фраз почти всегда, в конце концов, выбивалась какая-нибудь своеобразная, оригинальная, иногда и глубокая мысль, — в форме его речей (как и писаний) было что-то своеобразное, сильное. Среди вялых слов и косноязычных фраз блеснет вдруг яркая метафора, прозвучит проникнутое страстным вдохновением слово, проявится могучий порыв — и внимание аудитории захвачено, приковано к оратору».