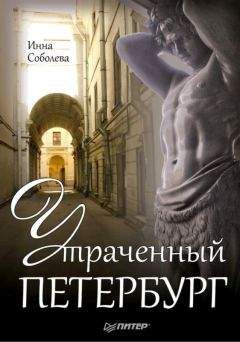Ознакомительная версия.
Прочитав в первый раз письмо Пушкина к Толстому, я удивилась присутствию в перечне интересующих его людей одной фамилии и отсутствию другой. По поводу неожиданного для меня интереса к Шаховскому, кажется, удалось разобраться. Но почему Александр Сергеевич не спрашивает о Сашеньке Колосовой, самом, пожалуй, близком ему в актерской среде человеке? Может быть, они переписывались и не было нужды обращаться с вопросами к постороннему? Нет, не переписывались. Это известно определенно. Так что же? Стоило сопоставить события и даты, и стало понятно: как раз во время его ссылки Пушкин и Колосова были в ссоре. Вот и не спрашивал он у Толстого: «Что Колосова?» Быть не может, чтобы не интересовался, но спросить не хотел: обида не позволяла, а потом — раскаяние.
А. С. Грибоедов
Их многие годы, можно сказать всю сознательную жизнь, связывали с Александрой Михайловной Колосовой непростые отношения. Они познакомились, когда она готовилась к дебюту на сцене. Ей было шестнадцать лет. Ему — девятнадцать. Вскоре он сделался в доме Колосовых своим человеком (поначалу был влюблен, это уже потом она стала его преданным другом). Жили Колосовы в доме на Екатерининском канале (участок дома № 97 по набережной канала Грибоедова), принадлежавшем купцу Голидею, выходцу из Англии. Был он очень богат. Владел (среди прочего) островом. Вот, «исправив» имя владельца на русский лад, и стали называть остров, получивший после 13 (25) июля 1826 года печальную известность, Голодаем. Дом Голидея давно перестроен до неузнаваемости. Шедевром архитектуры он не был, но памятником истории и культуры, безо всякого сомнения, являлся. Так что вполне может пополнить наш список утрат. В этом огромном доме с аркадами и колоннами размещалась театральная контора, театральная типография (там печатали не только афиши и билеты, но и пьесы; первые пьесы Грибоедова были напечатаны именно в этом доме).
Но главное, в этом доме жили актеры. И какие! Алексей Семенович Яковлев («До него истинные чувства не были знакомы актеру. Все ограничивалось одной пышной декламацией. он потрясал своих зрителей», — писал о Яковлеве драматург и театральный критик Федор Алексеевич Кони), Яков Григорьевич Брянский (отец Авдотьи Яковлевны Панаевой; играл Сальери в «Моцарте и Сальери», старого цыгана в «Цыганах», на 1 февраля 1837 года была назначена премьера «Скупого рыцаря», но из-за гибели автора не состоялась), прекрасная балерина Екатерина Александровна Телешова (ею был страстно увлечен Грибоедов), Каратыгины (о них актер, драматург и автор театральных воспоминаний Гавриил Михайлович Максимов писал: «…кроме способности увлекать публику речами, заставляя ее по своему произволу плакать или содрогаться, умели доставлять ей эстетическое наслаждение и своим внешним видом: каждая их поза, каждый жест, верно соответствуя речи, были в то же время художественно живописны!»), Колосовы (матушка Евгения Ивановна была известной балериной, дочь Сашенька — актрисой драматической; со временем она выйдет замуж за гениального трагика Василия Андреевича Каратыгина). Вот у Колосовых-то частенько и проводил вечера, прежде чем отправиться к «ночной княгине», Александр Сергеевич Пушкин.
«Мы с матушкой, — писала в «Воспоминаниях» младшая Колосова, — от души полюбили его. Угрюмый и молчаливый в многочисленном обществе, Саша Пушкин, бывая у нас, смешил своей резвостью и ребяческою шаловливостью. Бывало, ни минуты не посидит спокойно на месте: вертится, прыгает, пересаживается, перероет рабочий ящик матушки, спутает клубки гарусу в моем вышиваньи, разбросает карты в гранпасьянсе, раскладываемом матушкою… «Да уймешься ли ты, стрекоза! — крикнет, бывало, моя Евгения Ивановна. — Перестань, наконец!» Саша минуты на две приутихнет, а там опять начинает проказничать. Как-то матушка пригрозилась наказать неугомонного Сашу — «остричь ему когти» — так называла она его огромные, отпущенные на руках ногти. «Держи его за руку, — сказала она мне, взяв ножницы, — а я остригу!» Я взяла Пушкина за руку, но он поднял крик на весь дом, начал притворно всхлипывать, стонать, жаловаться, что его обижают, и до слез рассмешил нас… Одним словом, это был сущий ребенок, но истинно-благовоспитанный».
В середине декабря 1818 года на сцене Большого театра состоялся дебют Сашеньки Колосовой. Пушкин был на спектакле и так описал ее игру: «В скромной одежде Антигоны, при плесках полного театра, молодая, милая, робкая Колосова явилась недавно на поприще Мельпомены. Семнадцать лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы (следовательно, чистая приятная улыбка), нежный недостаток в выговоре обворожили судей трагических талантов. Приговор почти единогласный назвал Сашеньку Колосову надежной наследницей Семеновой».
И вдруг… Пушкин прекращает появляться у Колосовых. Зато им, не скрывая злорадства, читают эпиграмму:
Все пленяет нас в Эсфири:
Упоительная речь,
Поступь важная в порфире,
Кудри черные до плеч,
Голос нежный, взор любови,
Набеленная рука,
Размалеванные брови
И огромная нога!
Александра Михайловна была потрясена: за что?! На свое счастье она еще не знала, как уничижительно он отзывался о ней в статье «Мои замечания об русском театре» (эту блистательную статью он почему-то не закончил, при его жизни она не была опубликована).
Потом выяснилось: кто-то из ее завистников с «сочувствием» передал Пушкину, что Колосова смеялась над его внешностью и назвала его мартышкой. Он поверил. Подобные насмешки всегда больно его задевали. Вот сгоряча и написал эпиграмму. Она появилась в 1819-м, а через два года Пушкин напишет Катенину из Кишинева, что искренне сожалеет о своих злых словах. Пройдет еще четыре года (он только что вернется из ссылки), и Колосова с волнением прочитает обращенные к ней строки:
Так легкомысленной душой,
О боги! смертный вас поносит,
Но вскоре трепетной рукой
Вам жертвы новые приносит.
Кто мне пришлет ее портрет,
Черты волшебницы прекрасной?
Талантов обожатель страстный,
Я прежде был ее поэт.
С досады, может быть неправой,
Когда одна в дыму кадил
Красавица блистала славой,
Я свистом гимны заглушил.
Погибни злобы миг единый,
Погибни лиры ложный звук.
Конечно же, она его простила. Дружба их продолжалась. В ее доме в 1831 году (она уже вышла замуж за Каратыгина) Пушкин читал еще не опубликованного «Бориса Годунова». «Первые явления, — рассказывал Михаил Петрович Погодин, — были выслушаны тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием всех ошеломила. Мне показалось, что мой родной и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена; мне послышался живой голос русского древнего летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков: «Да ниспошлет Господь покой его душе, страдающей и бурной», мы просто обеспамятели. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет, то молчание, то взрыв восклицания. Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. О, какое удивительное это было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как докончили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь». Рассказ Погодина — о другом чтении, но он точно передает впечатление большинства тех, кто впервые слушал Пушкинскую трагедию!
А Александра Михайловна рассказывала: «Он очень желал, чтобы мы с мужем прочитали на театре сцену у фонтана, Димитрия с Мариною. Несмотря, однако же на наши многочисленные личные просьбы, граф Бенкендорф. отказал нам в своем согласии; личность самозванца была тогда запрещенным плодом на сцене». «Борис Годунов» долго оставался «запрещенным плодом на сцене». Впервые был поставлен труппой Александринского театра на сцене Мариинского театра только 17 сентября 1870 года. Мечта Пушкина увидеть свою трагедию на сцене Большого театра так и не сбылась…
«Не ступай на стезю нечестивых»
Сначала я об этом не задумывалась. А потом, когда задумалась, стало как-то не по себе. Будто рок меня преследует: куда ни перееду, попадаю в окружение разрушенных храмов. Моя родная улица носит сейчас имя зловещее — Марата. Едва ли есть в городе улицы, которые бы так часто меняли названия. Поначалу, во времена Анны Иоанновны, была она просто проездом, по которому добирались до Невской прошпективы семеновцы (полк стоял в районе нынешнего Витебского вокзала). Потом проезд продлили, чтобы связать Семеновский и Преображенский полковые городки (преображенцы стояли в районе Таврического сада), он стал улицей, которую назвали Преображенской Полковой. Затем — уж не знаю, за какие заслуги, — переименовали в Грязную. После смерти Николая I назвали в его память Николаевской. После февральской революции стала она «символом победившего самодержавие народа» — проспектом 27 февраля. Так что, если подумать, вовсе не случайно большевики дали ей имя кровавого Марата (часто спрашивают: при чем здесь Марат? Что у нас — своих выдающихся людей мало?). А вот притом: чтобы называющие себя демократами особенно не обольщались. Их власть ненадолго. Может быть, я и ошибаюсь, но мне именно такой видится подоплека переименования.
Ознакомительная версия.