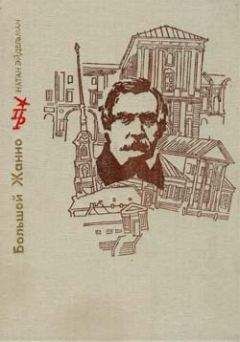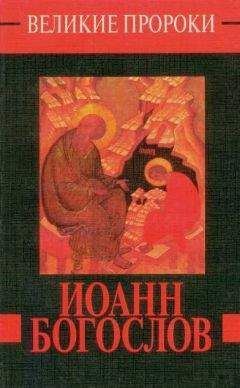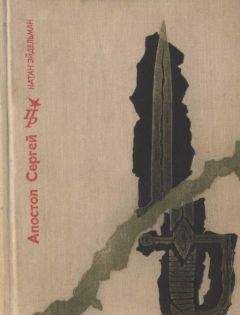Как я узнал от Бестужева, он последнее время состоит в связи с местной буряткой; у них родился сын, которого любезно усыновил местный купец Старцов. Что за странная судьба у бестужевских детей — никогда не быть детьми Бестужева! Я спросил, отчего же не обвенчаться? Николай Александрович признался, что сделал бы это непременно, если бы не сестры, которые умоляли, в ногах валялись, даже Степовую вспоминали: все, что угодно, но только не брак с простолюдинкой, да еще и нерусского племени! Как я догадался, Николай Александрович не считал эти резоны сколько-нибудь разумными, но вынужден считаться с сестрами, все в столице бросившими и воспитывающими трех детей Михаила Александровича Бестужева.
А поздно вечером Николай Александрович разложил предо мною на столе несколько листков, пришедших недавно из Петербурга, несколько своих черновых, и вышел.
Если первые порывы его откровенности меня сильно тронули, то с каждым часом я все больше предчувствовал беду. То, что он счел нужным мне показать, было из той области, которую он оберегал от постороннего глаза всю жизнь, и, значит, всерьез не чаял дожить, да, наверное, уж и не хотел, боялся встречи.
По письмам, мне показанным (с разрешением все читать и списывать), я угадал момент, когда силы Николая Александровича кончились; пока он был в каторге, формально переписываться ему запрещено, и с ним — тоже (кроме близкой родни). Однако с выходом на поселение молчать стало невозможно.
В письме к сестре Елене (она еще не выехала из столицы, дело было 12 декабря 1841 года, то есть почти в 16-ю годовщину нашего бунта) Николая Бестужева вдруг прорвало:
«Боже мой, как мне жаль Михайлу Гавриловича, каков-то он, я видел про него страшный сон. Что поделывает Любовь Ивановна и ее милые дети?»
Вот ведь как: самое главное вскользь, в последней строчке. А Михайлу Гавриловича, в эту пору генерал-лейтенанта, директора штурманского училища в Кронштадте, было, наверное, за что жалеть «государственному преступнику, на поселении находящемуся», ибо кто измерит каторгу, прожитую Степовым, да ему в 1841-м уж 73-й год. Однако по следующим письмам я усумнился, что обращение к генералу лишь повод: сестра посетила Степовых; теперь, по прошествии лет, это не опасно, и младший брат, Павел Бестужев, незадолго до своей скорбной кончины получил, как видно, приглашение в генеральскую семью.
И вот читаю черновики. Старшие Бестужевы — брату Павлу:
«Благодарим тебя душевно за все приятные известия, которыми нас порадовал в последнем письме твоем. Но больше всех нас радует новость о свадьбе Софьи Михайловны; присылай, бога ради, цветки из ее венчального букета; поздравь ее от нас. Скажи, что мы молим бога о будущем ее благополучии и чтоб она походила нравом и характером на свою маменьку. Мы очень довольны, что ты подарил им всем по вещице нашей работы; если б мы знали, что это им приятно, то давно бы прислали им что-нибудь на память, но холодные поклоны Л. И. в письмах сестер нас останавливали. Если увидишь их, скажи Л. И., что одна строчка обрадовала бы нас наравне с родственными. Как бы мы желали, чтоб и дети ее также что-нибудь сами нам о себе сказали!»
В другой раз:
«Что поделывает Л. Ив.? Помнит ли она о бедных изгнанниках? Что же касается до милых ее детей, потому что я себе не могу представить их иначе, как детьми, — я не могу тебе выразить, как мне приятно было видеть их обо мне память».
Прочитал я и черновик письма Н. А. (по-французски, конечно) к самим девицам.
К старшей:
«Вы меня спрашиваете, помню ли я Лизу, тогда как мне приличнее сделать вопрос, помните ли Вы меня? Правда, что в те лета, в которых оставил я Вас, память уже хорошо действует — и потому я верю, я хочу тому верить, что Вы меня не забыли. Что же касается до меня, то я, конечно, Вас не забыл, ежели всякий день, вставая и ложась, молюсь богу за Вашего батюшку, маменьку и за Вас. Одного только я не могу себе представить: в каком виде маленькая Лиза сделалась большой девицей; я Вас иначе не могу вообразить, как семилетней Лизой. Все усилия моего воображения ограничиваются тем, что я Вас представляю в сарафанчике и ленте, пляшущую по-русски; и как бы я себе ни нарисовал Вас, кончается тем, что, поправляя, оттеняя и раскрашивая, я нарисую всегда одну и ту же Лизу, которую помню, знаю, люблю и которая своими ручонками обвивала мою шею. То же самое воображаю и о Sophie, о которой давно знаю, что она уже маменька: что же мне делать, когда при всех стараниях как-нибудь представить себе ее маменькой, я вижу только Фофу с куклою на руках и обеих вместе на моих коленях. Судьба, конечно, не позволит мне никогда уже видеть вас, и потому позвольте мне, старику, довольствоваться старыми воспоминаниями, которые всегда живы и никогда не изгладятся из памяти».
Софье, «Фофе», Степовой было еще и отдельно писано — судите сами, Евгений, что скрывается за каждою строкою!
«Не знаю, почему и несмотря на то что совесть моя давно меня упрекает, я не отдал должного Вам ответа, не писал к Вам, Софья Михайловна. Между тем бог свидетель, что Вы и Ваши сестрицы не выходите из моей памяти ни на минуту. Даже я отнял у Елены Александровны ваши дагерротипы и портреты и поставил на своем письменном столике, за которым сижу по несколько часов в день за своими занятиями. Отдых мой состоит в том, что я гляжу на вас всех и стараюсь угадать в матерях семейств тех милых детей, которые так много доставляли мне радостей в былое время! Почти двадцать лет прошло с тех пор, я состарился, Вы давно замужем, окружены детьми и говорите, что Фофа Ваша уже перерастает Вас. Итак, есть другая Фофа, которая носит то же имя, имя, которым мы называли Вас и которое так приятно звучит для моих воспоминаний.
Как хотите: будьте матерью семейства, пусть Вас сыщет счастье и богатство, сделайтесь знатною дамой — я всему этому буду радоваться; я буду перебирать все Ваши настоящие достоинства и окружающий Вас блеск…
Я должен Вам сказать истинную причину, почему я не писал Вам: я боялся своего сердца, мне было страшно высказать свои чувствования женщине, окруженной семейством, и высказать их как семилетней девочке, — я боялся, что это будет смешно, однако я теперь надеюсь, что Вы простили мне, если я вижу, что у меня, у которого отнято и нет ни настоящего, ни будущего, осталось одно только прошедшее, полное Вами, тем более дорогое, что оно только одно осталось!.. Этого прошедшего никто у меня не отнимет. Сам всемогущий бог, не лишив меня памяти, не в состоянии сделать, чтоб того не было, что уже было. Сверх всего этого, Вы напомнили самое счастливое время моей жизни, тихое, прекрасное, когда мы с братом Михаилом помогали почтенной и уважаемой Вашей матушке руководить Вашими младенческими понятиями.
Прочитав Ваше письмо к Елене, где Вы выражаете Ваше расположение ко всему нашему семейству, совесть моя переломила боязнь, и я пишу…
Не сердитесь за мой способ выражения того, сколь дорого мне Ваше воспоминание. Волосы мои седы, силы меня оставляют, но сердце мое тепло по-старому, потому что здесь я не истратил ни одной искры того, что у меня оставалось от прошлого».
Вот, брат Евгений, каковы были «внутренние происшествия» у Бестужевых.
Прошедшего ничто не отнимает…
Холодные поклоны от Л. И.
Но маленькие девочки, Лиза, семи лет, Софа, шести лет, Варя, трех лет, могут помнить Бестужева, если им кто-то с детства напоминает, и постоянно; и кто же, кроме самой Любови Ивановны, Любви Бестужевны?
Не знаю, сколь далеко простирались познания девочек об их близком человеке.
Одна за другой они делаются превосходительствами:
за генерала Гогеля — «Фофа»,
за генерала Яфимовича — Варвара,
за генерала Энгельгардта — Лиза.
Михаил Гаврилович оканчивает свой земной путь на 76-м году жизни, в 1845-м.
В те дни, что я был в Селенгинске, Иркутске, они наконец одиноки: Любовь Ивановна и Николай Александрович, но ничего не будет, и писем не будет.
— Зайдите к ней, Иван Иванович, если бог приведет, ей очень сейчас тяжко, а мне уж не нужно старое бередить.
Еще раз прибавил: «Это моя женщина была, потому что за 13 лет не наблюдал в ней ни одной не понравившейся мне интимности, черточки, жеста».
Я заметил, что Николай Александрович говорит, как моряк с мостика: «не наблюдал». Он улыбнулся: «Так учился, так учил».
Через шесть лет в Ялуторовске мы узнали, как скончался Николай Александрович: ехал ранней весною по озеру, а ветер холодный, но по пути отдал бедняку свою повозку и, весело посвистывая, заиграл со смертью; я не сомневаюсь ничуть, хотя доказательств никаких не имею, что и до того Н. А. не раз в такие известные нам игры пускался. На этот раз партия получилась: приехав домой, слег и не встал. Окончил дни на 65-м году, 15 мая 1855-го. Пережил, правда, тезку-императора, но года до амнистии не хватило.
Однако боялся он амнистии страшно и, думаю, не тронулся бы с места, как и брат Михаил, который еще 12 лет просидел в Сибири, не желая ни Петербурга, ни Москвы.