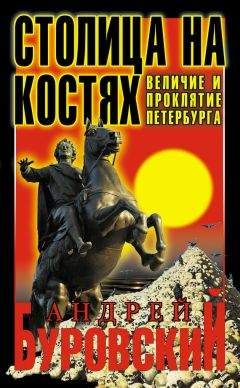Ознакомительная версия.
Несомненно, это очень назидательная история, но ведь и несбывшееся пророчество тоже примечательно по-своему.
По поводу же «страшных рассказов» любого рода замечу: вовсе он не только простонародный, этот петербургский фольклор. Уже в XVIII веке в рассказывание быличек включился и весь высший свет.
Великий князь Павел Петрович, будущий император Павел I, рассказывал такую историю. Мол, как-то вечером он, Павел Петрович, шел в сопровождении князя Куракина и двух слуг. Вдруг впереди показался незнакомец, завернутый в широкий плащ. Этот неизвестный явно поджидал Великого князя и пошел с ним рядом.
— С нами кто-то идет! — сказал Павел Петрович князю Куракину.
Но князь никого не видел и пытался уверять Великого князя, что тут никого нет. Незнакомец же вдруг заговорил: «Павел! Бедный Павел! Бедный князь! Я тот, кто принимает в тебе участие». Он пошел впереди путников, показывая им дорогу, вывел на Сенатскую площадь и указал на место, где потом воздвигли памятник: «Павел, прощай, ты снова увидишь меня здесь». С этими словами незнакомец приподнял шляпу; это был, разумеется, Петр I.
История эта была рассказана 10 июня 1782 года в Брюсселе, и записала ее баронесса Оберкирх. Это обстоятельство делает легенду как бы частью европейской истории, частью великосветской жизни того времени. Но, опасаясь вызвать гнев записных монархистов, спрошу: чем рассказ Павла отличается от рассказа дьячка Троицкой церкви? Тем, что в нем речь идет о «царственных особах», а не о какой-то там кикиморе? Тем ли, что наследником престола не занималась Тайная канцелярия, и он мог безнаказанно, в великосветском салоне, рассказывать то, что дьячки болтали только спьяну и под страхом кнута?
В начале — середине XIX века в салонном фольклоре — фольклоре богатого столичного дворянства — особую роль занимали «страшные петербургские рассказы» — то есть фантастические истории с непременным петербургским колоритом. Наверное, уже не восстановить и малой толики этих историй, увы!
Собирателями этого фольклора и всевозможных «страшных историй» стали такие деятели культуры, как Пушкин, Дельвиг и Гоголь. Именно они сделали петербургский фольклор фактором «высокой» культуры — культуры образованных верхов.
Напомню, что многие из петербургских рассказов Гоголя откровенно фантастичны и так же откровенно близки к «народному» пласту петербургского фольклора.
Пушкин мыслил свои дневники 1833–1835 годов как своего рода сборник «страшных» историй.
Дельвиг культивировал этот устный «страшный петербургский рассказ». Именно он рекомендовал напечатать «Уединенный домик на Васильевском», совместное творение А.С. Пушкина и В.П. Титова (повесть вышла под псевдонимом)[137]. Вообще же Дельвиг собрал множество таких историй, да и в самой его жизни происходило многое, «кажущееся чудным».
Таинственные рассказы любили и в салоне поэта Козлова, и во многих других.
Можно как угодно относиться и к истории, рассказанной Павлом Петровичем, и к многочисленным свидетельствам о появлении в Инженерном замке призрака самого Павла I, а на Дворцовой площади — призрака Николая I. Если так удобнее, давайте считать, что у петербуржцев почему-то дружно «поплыла крыша». Но вот поплыла-то она в очень уж определенном направлении.
Перечислить ВСЕ литературные произведения, которые относятся к жанру «петербургского жутика», и невозможно, и не нужно. Главное — литература этого рода в Петербурге и рождается, и потребляется. Идет, что называется, валом. Тут и «Пиковая дама», и фантасмагории Гоголя, и «Штосе» Лермонтова, и полузабытые рассказы Одоевского, и совсем уж забытый «Странный бал» Вадима Олгина.
В XX веке та же тенденция продолжается. Как любили поэты и писатели Серебряного века все вычурное, мистическое, невероятное, сказочное. Причем это не «убегание» в сказку, не выдумывание какого-то «паралллельного мира», как в современном фэнтези. Это последовательное привнесение фантастического в реальный повседневный мир. Если не удается насытить фантастикой Петербург, если даже он становится чересчур прозаичен — к услугам образованного человека и иные времена, и иные пространства. Не буду углубляться в тему: тут предмет для особого исследования. Но Николай Гумилев даже от такой банальности, как неверная жена или влюбленная девица, отправлялся в Средневековье или в Африку. Там — на максимальном расстоянии от реальности, он находил для себя то, чего не мог отыскать в Петербурге и вообще во всей России.
Так и А.Блок искал эстетического идеала то в «береге очарованном и очарованной дали», то в балаганчике, и что-то слишком часто у него то плачет ребенок о тех, кто уже не придет назад, то «кости бряцают о кости»… Та же фиксация внимания на трагическом, потустороннем, фантасмагорическом… На пограничных состояниях, на смерти.
В конце XIX — начале XX века писались и совершенно мистические произведения — и тоже на сугубо петербургской основе. Вера Ивановна Крыжановская писала под псевдонимом Рочестер; сегодня она практически забыта, а жаль! Фактически ее просто выбросили из числа поэтов и писателей Серебряного века «за идеологию». Теперь ее печатают — но поезд ушел.
Что только не делается в Петербурге, созданном ее фантазией! Финки-колдуньи, встающие мертвецы, любовные привороты… Удивительное соединение «дамского романа» с «жутиком»[138].
Другое поколение, Александр Кондратьев, писал на те же темы «мистического Петербурга», сочетания мистического и реального. Этот практически забытый литератор был хорошо известен в начале XX века. Был знаком с А. Блоком, с 3. Гиппиус и Д. Мережковским. До 1917 года у него вышло 7 книг. В эмиграции он продолжал писать на те же темы[139].
При советской власти мистика, говоря мягко, не поощрялась, но авторы много раз поминавшегося альманаха «Круг», по существу, продолжают ту же самую тенденцию. Еще раз подчеркну: разворачивать тему я не буду, потому что так можно написать еще одну книгу, уже о другом. Не о Петербурге, а об одной из тенденций его культуры. Главное для меня сейчас — отметить стойкость этой тенденции.
Не будь Катаклизма, не возникни разрыва в течении литературного процесса, романы Кондратьева были бы широко известны на Родине. Авторы «Круга» учились бы у Кондратьева и других таких же, не открывая сами по себе давно открытые америки.
Ну, будет считать — литературный процесс — это высоко, элитно, не всем доступно. Но ведь «низы» петербургского общества восприимчивы к «страстям» такого рода ничуть не меньше «верхов». Эта масса населения Санкт-Петербурга мало представлена в литературе, но взять хотя бы образ жуткого сапожника-сатаниста, распространяющего письма с молитвами «Утренней звезде», то есть дьяволу[140]. Старичок этот не имеет никакого отношения ни к кружку Гнедича и Дельвига, ни к потомкам людей этого круга. Ни к элитнейшей ученой публике, собиравшейся в «Бродячей собаке», легко переходившей с русского на немецкий и французский. Но он, право же, ничуть не меньший петербуржец: то же отчаяние, та же беспочвенность, тот же острый интерес к потустороннему, к смерти. Наконец, та же непререкаемая уверенность в том, что стоит Петербург на костях тысяч и тысяч. Легенда эта нужна ему не меньше, чем самому Георгию Иванову.
Другое дело, что старый простолюдин делает из русской истории свои выводы: мол, верхи общества — они все немцы, если не по крови, то по духу. Что Петр немец, чьи «косточки в соборе на золоте лежат», что Пушкин, воспевший «Петра творенье».
«Что же он любит? Петра творенье. Русскому ненавидеть впору. А он — люблю. Немец! Державу любит! Теченье! Гранит — нашими спинами тасканный. На наших костях утрамбованный! Ну?»[141]
А как раз те, «чьи косточки, — он топнул ногой, — под нами гниют, чьи душеньки неотпетые ни Богу, ни черту ненужные, по Санкт-Петербургу этому, по ночам по сей день маются и Петра вашего, и нас всех заодно, проклинают, — это русские косточки. Русские души…»[142]
Страшненький старичок? Еще какой страшненький. Неприятный? Не понявший чего-то очень важного? Избравший неверный путь? А это уж оценивайте, как вам будет угодно, господа. Только «петербургский текст» русской культуры позволяет и такое толкование, верно? Не всем же жителям города с населением в два с половиной миллиона соглашаться во всем и всегда.
Откуда же эта мрачная мифология? Это упорное стремление видеть в своем городе, в его истории трагичное, страшное, сплошной парад вставших покойников и привидений?
Ю.М. Лотман полагает, что дело тут в дефиците городской истории. Городу ведь необходима история, иначе его жители не смогут осознать и осмыслить самих себя. В постепенно растущих городах история задается как неторопливо разворачивающийся процесс, растянувшийся на века.
Ознакомительная версия.