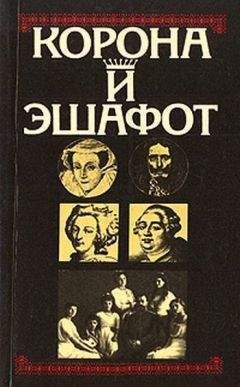— Конечно, народ самым ужасным образом введен в заблуждение, но не моим супругом и не мною.
— Кем же народ введен в заблуждение?
— Теми, кто в этом заинтересован. У нас же в этом не было ни малейшей заинтересованности.
Услышав такой двусмысленный ответ, Эрман тотчас же использует его, чтобы заставить королеву высказаться о революции. Он рассчитывает, что теперь-то будут произнесены слова, которые можно будет истолковать как враждебные республике.
— Кому же, по вашему мнению, выгодно вводить народ в заблуждение?
Но Мария Антуанетта искусно уклоняется от прямого ответа. Этого она не знает. В ее интересах было просвещать народ, а не вводить его в заблуждение.
Эрман чувствует иронию в этом ответе и, недовольный, говорит: «Вы не дали однозначного ответа на мой вопрос».
Но королева не позволяет выманить себя с оборонительной позиции: «Я говорила бы без обиняков, если бы знала имена этих личностей».
После этой первой стычки допрос опять протекает некоторое время спокойно. Ее допрашивают об обстоятельствах бегства в Варенн; она отвечает осторожно, покрывая всех тех своих тайных друзей, которых обвинитель хочет вовлечь в процесс. Только при следующем неумном обвинении Эрмана она вновь дает сильный отпор.
— Вы никогда ни на мгновение не прекращали попыток погубить Францию. Вы во что бы то ни стало желали править и по трупам патриотов вновь взобраться на трон.
На эту напыщенную бессмыслицу королева отвечает гордо и резко (зачем, зачем поручили допрос таким болванам): ни ей, ни ее мужу никогда не было необходимости взбираться на трон, ибо они уже занимали его и ничего другого не могли желать, кроме счастья Франции.
Тут Эрман становится агрессивнее; чем больше он чувствует, что Мария Антуанетта не позволяет сбить себя с толку и не дает никакого «материала» для открытого процесса, тем яростнее громоздит он обвинения: она опоила солдат фландрского полка, переписывалась с иностранными дворами, виновна в развязывании войны, в том, что была подписана Пильницкая декларация. Но, опираясь на факты, Мария Антуанетта опровергает все эти обвинения: Национальное собрание, а не ее супруг объявило войну, во время банкета она лишь дважды прошла по залу.
Но самые опасные вопросы Эрман припасает под конец, те, отвечая на которые королева должна либо отречься от своих собственных чувств, либо каким-нибудь высказыванием оскорбить республику. Ей задают вопросы из катехизиса государственного права:
— Как вы относитесь к военным успехам республики?
— Больше всего я желала бы счастья Франции.
— Считаете ли вы, что для счастья народа нужны короли?
— Отдельные личности не в состоянии решить эту задачу.
— Вы, без сомнения, сожалеете, что ваш сын потерял трон, на который он вступил бы, если бы народ, узнав наконец о своих правах, не разрушил его?
— Я никогда не пожелаю моему сыну того, что может принести несчастье его стране.
Да, допрашивающему явно не везет. Мария Антуанетта не могла бы выразиться более изворотливо, более иезуитски, чем на этот раз: «…не пожелаю моему сыну того, что может принести несчастье его стране», ибо этим притяжательным местоимением «его» королева, не объявляя открыто республику незаконной, прямо в лицо говорит председателю Трибунала этой республики, что она, Мария Антуанетта, все еще считает Францию собственностью сына, законными владениями своего ребенка, от прав сына на корону она не отказалась даже в опасности. После этой последней стычки допрос быстро заканчивается. Спрашивают, не назовет ли она сама имя защитника для судебного разбирательства. Мария Антуанетта заявляет, что не знает адвокатов и не возражает, чтобы ее делом занялись по определению суда один или два защитника, лично ей неизвестные. В сущности безразлично — она отчетливо представляет себе это, — другом или незнакомым человеком будет ее защитник, ибо во всей Франции нет сейчас никого, кто решился бы всерьез защищать бывшую королеву. Всякий, кто открыто скажет хотя бы слово в ее пользу, тотчас же сменит кресло защитника на скамью подсудимого.
Теперь видимость законного следствия соблюдена, испытанный педант Фукье-Тенвиль может приступить к работе и готовить обвинительное заключение. Перо так и скользит по бумаге, тот, кто ежедневно пачками фабрикует обвинения, набивает руку. И все же этот маленький провинциальный юрист считает, что особый случай обязывает его к известному вдохновению: обвинительное заключение по делу королевы должно быть более торжественным, более патетичным, чем по делу какой-нибудь белошвейки, схваченной за шиворот потому, что она крикнула «Vive le roi!». И его документ начинается крайне выспренно: «После проверки полученных от прокурора документов установлено, что, подобно Мессалине, Брунгильде, Фредегонде и Екатерине Медичи, некогда именовавшим себя королевами Франции, презренные имена которых навечно остались в анналах Истории, Мария Антуанетта, вдова Людовика Капета, со своего появления во Франции была бичом и вампиром французов». После этой небольшой исторической ошибки — во времена Фредегонды и Брунгильды королевства Франции не существовало — следуют известные уже нам обвинения: Мария Антуанетта имела политические связи с лицом, именуемым «королем Венгрии и Богемии», передала миллионы императору, принимала участие в «оргии» гвардейцев, развязала гражданскую войну, побуждала устроить резню патриотов, передавала военные планы иностранным державам. В несколько завуалированной форме дается обвинение Эбера: «Будучи невероятно преступной и противоестественной в поведении, она так издевалась над своим материнским долгом и законами природы, что не устрашилась обращаться со своим сыном Louis Charles Capet столь безнравственно, что даже подумать об этом или описать это невозможно, не содрогнувшись от возмущения».
Новым и неожиданным здесь является лишь обвинение в том, что она, достигнув предела притворства и низости, дала будто бы указание печатать и распространять произведения, в которых она представлялась в невыгодном свете, с целью внушить иностранным державам мысль о том, как жестоко относятся к ней французы. Таким образом, в соответствии с концепцией Фукье-Тенвиля Мария Антуанетта сама распространяла трибадийные памфлеты Ламотт и бесчисленное количество других пасквилей. На основании всех этих обвинений находящаяся под стражей Мария Антуанетта становится обвиняемой.
Этот документ, который шедевром юридического искусства не назовешь, с еще не просохшими чернилами передается 13 октября защитнику Шово-Лагарду, который незамедлительно направляется к Марии Антуанетте в тюрьму. Обвиняемая и ее адвокат одновременно читают обвинительное заключение. Адвоката поражает и потрясает враждебный тон документа, Мария Антуанетта же, не ожидавшая после допроса ничего другого, остается совершенно спокойной. Но добросовестный юрист не может прийти в себя от отчаяния. Нет, просто физически невозможно за одну ночь изучить такое нагромождение обвинений и документов. Он лишь тогда сможет эффективно защищать, когда разберется во всем этом бумажном хаосе. И он настаивает на том, что королева должна ходатайствовать о трехдневной отсрочке, чтобы он мог основательно подготовить свою защитительную речь, базируясь на надежных материалах, на проверенных документах.
— К кому же я должна обратиться? — спрашивает Мария Антуанетта.
— К Конвенту.
— Нет, нет… никогда.
— Но, — настаивает Шово-Лагард, — вы не должны из-за бесполезного в данном случае чувства гордости жертвовать своей пользой. Ваш долг — сохранить жизнь не только для себя, но и ради ваших детей.
Этот довод заставляет королеву сдаться. Она пишет председателю Собрания: «Гражданин председатель, граждане Тронсон и Шово, которым Трибунал поручил мою защиту, обращают мое внимание на то, что они лишь сегодня приступили к исполнению своих обязанностей. Завтра я должна предстать перед судом, они же за такой короткий срок не в состоянии ни изучить материалы процесса, ни даже прочесть их. Я была бы виновата перед моими детьми, если бы не использовала все средства, ведущие к моему полному оправданию. Мой защитник ходатайствует о трех днях отсрочки. Я надеюсь, Конвент согласится на это».
Вновь поражает в этом документе духовное преображение Марии Антуанетты. Всю свою жизнь плохой дипломат, сейчас она начинает мыслить и писать как королева. Она не выступает просительницей перед Конвентом, этой высшей правовой инстанцией, она не оказывает ему такой чести даже в момент чрезвычайной опасности для своей жизни. Она не просит от своего имени — нет, лучше погибнуть! — она передает лишь просьбу третьего лица: «Мой защитник ходатайствует о трех днях отсрочки», написано там и: «Я надеюсь, Конвент согласится на это».