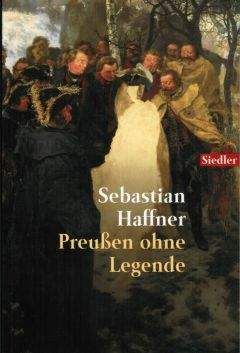С другой стороны, немцам ведь на западе срочно нужны были их восточные армии; а слабость большевистского правительства была в мирных переговорах одновременно и их самой большой силой: ведь немцы должны опасаться того, что они вообще не смогут надолго удержаться и что грубость и насилие их так или иначе, рано или поздно ожидаемого падения могут быть фатально ускорены. Как раз потому что это невозможное правительство было таким слабым, следовало пока обращаться с ним как с сырым яйцом. В противном случае можно неожиданно снова оказаться без стремящегося к миру русского партнера по переговорам.
Таким образом, немецкие представители (к большому разочарованию немецкого общественного мнения) сначала видимо совершенно искренне и вежливо согласились с русской мирной программой, которая увенчивалась обоими требованиями: «Никаких аннексия и контрибуций» и «Право самоопределения для всех народов». Кюльманн хотел, как он пишет в своих мемуарах, «основываясь на праве на самоопределение, подточить пункт о мире без аннексий» и «что нам вообще требовалось из территориальных уступок, получить посредством права на самоопределение народов».
В конце концов в оккупированных областях было несложно манипулировать правом на самоопределение посредством назначенных «земельных собраний». А от Украины, которая еще не была оккупирована, но где однако большевистская революция в декабре 1917 года еще не была проведена, с самого начала на переговорах была отдельная делегация, которая вначале играла неопределенную роль, но к концу становилась для немцев всё важнее. Однако за ней становилось всё меньше реального веса, поскольку в течение января и февраля большевики утвердились и на Украине, и в середине февраля украинская делегация, по словам Троцкого, «территориально представляла одну лишь свою комнату в Брест-Литовске». Но как раз там Германия и её союзники и заключили с ней сепаратный мир.
Между тем, пока дошло до этого, переговоры продолжались уже несколько недель, при этом в основном речь шла о том, чтобы выяснить, что означает «самоопределение». Дебаты казались чисто академическими. Скоро стало ясно, что немцы подразумевали под этим скрытую аннексию. Равным образом стало ясно, что русские на это идти не хотят. Но обе стороны в длительной схватке пытались победить противника по очкам, каждый по своему методу.
Немецкие и австрийские дипломаты демонстрировали свое искусство породистой дипломатии старой школы: неприемлемое осторожно изложить иными словами, на прямые вопросы не давать прямого ответа, вежливо намекать, скрыто угрожать, в общем, хитрить. Но все это было напрасной тратой сил, поскольку большевистские партнеры по переговорам были неподходящей публикой для такого искусства. Особенно Троцкий не был дипломатом, но он был великолепным оратором и блестящим полемистом. Он со своей стороны упирал на то, чтобы загнать немцев в угол пламенной риторикой и острой диалектикой и «сорвать маски с их лиц» — что у него очень хорошо получилось.
Публика, которую при этом имел в виду Троцкий, была немецким и европейским пролетариатом: он хотел дать им лозунг для ожидаемой революции, и совсем уж безуспешным при этом он не был. В январе вследствие застоя переговоров в Брест-Литовске и все более отодвигавшихся надежд на мир сначала в Австрии, затем в Германии стали все чаще происходить большие забастовки против «продолжателей войны». Вне всякого сомнения, эти забастовки были предвестниками ноябрьской революции. Но в этот раз они были еще улажены; революция еще не созрела. Но у Троцкого, хотел он этого или нет, была и другая публика: сами германские военные за столом переговоров на конференции, которых и без того уже давно выводили из себя долготерпение и дипломатические китайские церемонии официальных немецких и австрийских глав переговоров. Почему они все время ходят вокруг да около, почему они сносят нахальство этого Троцкого? Разве недостаточно ясно соотношение сил? Кто, в конце концов, здесь победитель и кто побежденный? Наконец им стало ужасно досадно, и в середине января генерал Хоффманн (действительный глава немецких вооруженных сил на востоке, находившийся в подчинении старого принца Леопольда, номинального главнокомандующего) осуществил знаменитый «удар кулаком в Брест-Литовске». Он представил русским большую географическую карту, на которой толстыми линиями было обозначено все, что они должны были уступить: Польша, Финляндия, Литва, Курляндия, Лифляндия, Украина. В противном случае — прекращение переговоров и возобновление войны. Троцкий в ответ на это уехал: это новое положение дел, и он должен посоветоваться со своим правительством.
И теперь драма Брест-Литовска переместилась в Петербург, а фарс превратился в трагедию. Большевики сделали свою революцию под лозунгом мира — но не такой мир они имели в виду. Чтобы понять их чувства, нужно только вспомнить, с какими чувствами немцы через полтора года восприняли условия Версальского мира. Ноябрьская революция 1918 года в Германии тоже была революцией мира; но тот самый Филипп Шайдеманн, который 9-го ноября 1918 года провозгласил: «Народ победил повсюду», как известно, сказал потом в июне 1919, что должна отсохнуть та рука, что тогда подписала этот мирный договор. То же самое по смыслу говорили теперь советские руководители — почти все до одного.
Ведь и они в конце концов были русскими и патриотами России. Мир — да, они желали его, всеобщего мира народов без аннексий и контрибуций. Но позор и порабощение — это в виду не имелось. Неужели они изгнали царя, только чтобы заменить его германским кайзером? Исполнительный комитет Советов, Центральный Комитет партии, кабинет народных комиссаров: все теперь с подавляющим большинством требовали отклонения немецкого диктата, и если нужно — войны, «революционной войны».
Единственный, кто так не говорил, был Ленин. Ленин в этот момент снова проявил почти сверхчеловеческое смирение перед фактами и необходимостями, ту же самую способность самоотверженно проглотить горькую пилюлю, какую он проявил за год до этого, когда ради революции принял союз с германской империей, не вспоминая про позор и про честь. Таким же образом теперь он был готов, не вспоминая про позор и про честь, проглотить условия поработительного мира — ради революции. Он осознал раньше своих соратников, что мировую революцию придется подождать, что русская революция в настоящий момент останется сама по себе, и он был готов сделать из этого выводы. «Мировая революция», — говорил он, «это зародыш на втором месяце. Но русская революция уже родилась, она живой, здоровый ребенок, который кричит и требует еды». Она не перенесет возобновления войны. Тем самым её убьют; ей нужна передышка — любой ценой.
Он оставался в меньшинстве, но не уступил. Если решение о войне будет принято, то он уйдет в отставку, заявил он. Это была ужасная угроза: Ленин был незаменим, и каждый знал это. И все же сначала Ленин этим своего не добился. Большинство упорствовало в своей точке зрения.
В конце концов выход нашел Троцкий, выдвинувший лозунг: «Ни войны, ни мира». Он вернулся в Брест-Литовск и там отклонил немецкие условия, но одновременно объявил, что Россия выходит из войны. «Мы больше не воюем против вас, делайте с нами, что хотите». Тогда и посмотрим, что будут делать немцы. Вероятно, что они совсем ничего не будут делать — ведь их армии нужны были им на западе. Но если же они все-таки возобновят военные действия, что значит — безжалостно нападут на страну, то им тотчас следует объявить мир: это демаскирует их окончательно и бесповоротно перед глазами их собственного народа и тем самым даст в конце концов рабочим Германии сигнал к революции. Троцкий всегда склонялся к убеждению, что моральная победа является также и реальной победой, разоблаченный враг — это враг побежденный: благородная интеллектуальная слабость, которая годы спустя в борьбе со Сталиным стоила ему власти и в конце концов жизни. Мы знаем из мира животных, что «поза покорности», при которой побежденный беззащитно подставляет своё горло для смертельного укуса, психологически разоружает победителя. Среди людей, к сожалению, это не всегда так.
После того, как Троцкий на заседании Центрального Комитета сделал свое предложение, между ним и Лениным состоялся разговор с глазу на глаз. Этот разговор Троцкий позже описал в прямой речи. Ленин сказал:
«Все это было бы хорошо, не будь генерал Хоффманн в положении, когда он может дать своим войскам приказ о походе на нас. Он найдет особенно отборные полки из баварских молодых крестьян. Разве против нас так уж много нужно? Вы же сами говорите, что наши окопы пусты. Так что, если немцы возобновят войну?»
Троцкий: «В таком случае мы конечно же будем вынуждены подписать мир. Но в этом случае все увидят, что нас принудили к этому. По меньшей мере, тем самым будет нанесен смертельный удар по легенде о нашей тайной связи с Гогенцоллернами».