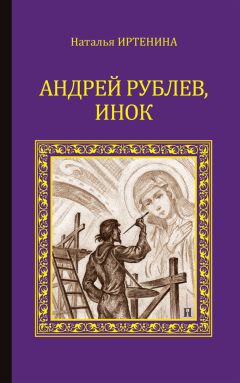Неудачность возражений, предложенных позднейшими писателями против деления русской истории, принятой Карамзиным, всего лучше показывает достоинство этого деления. Мы не можем не признать правильности деления русской истории на древнюю и новую и не можем не признать XVII и отчасти XVI века переходным временем. Следовательно, Карамзин имел полное право принять древнюю, среднюю и новую русскую историю.
За Введением следует статья: «Об источниках Российской истории до XVII века». Эти источники перечисляются в таком порядке: летописи, Степенная книга, хронографы, жития святых, особенные дееписания (сказания), Разряды, Родословная книга, письменные каталоги митрополитов и епископов, послания святителей, древние монеты, медали, надписи, сказки, песни, пословицы, грамматы, статейные списки, иностранные, современные летописи, государственные бумаги иностранных архивов.
Татищев первый подробно перечислил источники древней русской истории до XVIII века, внимательно рассмотрел Начальную киевскую летопись, которую утвердил за Нестором; первый старался определить место, где остановился Нестор; первый указал на его продолжателей. Труд Татищева лег в основание дальнейших исследований Миллера и Шлёцера. Татищев рассмотрел преимущественно внешнюю сторону летописей; Шлёцер обратил внимание на внутреннюю, поднял вопросы: каким образом приднепровский житель XI века мог достичь известной степени образованности? Как пришел он к мысли написать хронику родной страны, и написать на отечественном языке? Кто были его образцы? Из каких источников черпал он свои известия и каков вообще характер его повествования? Карамзин воспользовался исследованиями своих предшественников и в немногих живо набросанных чертах изобразил начального летописца с его источниками: «Нестор, инок Монастыря Киевопечерского, прозванный отцом Российской Истории, жил в XI веке: одаренный умом любопытным, слушал со вниманием изустные предания древности, народные исторические сказки; видел памятники, могилы Князей, беседовал с Вельможами, старцами Киевскими, путешественниками, жителями иных областей Российских; читал Византийские Хроники, записки церковные и сделался первым Летописцем нашего отечества». Так сухие изыскания Татищева, Миллера и Шлёцера под пером Карамзина приняли живой, целостный образ, и сколько стараний было потом употреблено и употребляется для того, чтобы сохранить этот образ неприкосновенным! Живой образ начального летописца, представленный Карамзиным, составляет, следовательно, окончательный результат исследований XVIII века, которые все отправлялись от одного положения, что начальная летопись в целости принадлежит одному лицу, именно преподобному Нестору, киевскому иноку XI века[4].
Карамзин в выражении «сделался первым летописцем нашего отечества» слово «первым» напечатал курсивом и в примечании отвергнул древнейшего Иоакима, как вымысел. И здесь Карамзин остался верен окончательному результату, добытому историческою критикою в XVIII веке. Татищев признавал важность так называемой Иоакимовой летописи, но, руководствуясь необыкновенною добросовестностию, не решился внести ее известий в свод летописей, а поместил их особо, на том основании, что ему нельзя было ссылаться ни на какую известную рукопись. Болтин, бесспорно, самый талантливый из всех занимавшихся русскою историею в XVIII веке, как своих, так и чужих; Болтин защищал Иоакима против Щербатова, но Шлёцер, исполненный уважения к начальному киевскому летописцу за то, что не нашел в нем генеалогических басен, не мог не отвергнуть Иоакимовой летописи, имевшей несчастие начинаться сказанием о Словене и Вандале. Авторитет Шлёцера надолго решил дело; вопрос об отделении позднейшего составления от древнейших источников не был поднят, и летопись Иоакимова отвергнута, как заключающая в себе одни вымышленные известия; но Шлёцер, отзываясь резко об Иоакимовой летописи, не заподозрил, однако, в подлоге самого Татищева, отдал справедливость его добросовестности[5].
Карамзин пошел далее. По его мнению, это шутка, затейливая, хотя и неудачная догадка Татищева, который сомневался в истине Нестерова повествования и хотел исправить мнимую ошибку; но Карамзин не ограничил своего приговора одним Иоакимом: по его мнению, Татищев, равно как составители поздних летописных сборников, выдумали все те лишние известия, которых нет в древнейших списках летописей. Это мнение, не высказанное определенно и резко в разбираемой главе, но повторяемое беспрестанно в примечаниях, надолго установило господствующий взгляд в нашей исторической критике. Высказывая это мнение, Карамзин шел дальше Шлёцера, сомнения которого не касались тех известий Татищева, которых не было в древнейших списках[6]. Впрочем, должно заметить, что Шлёцер не сравнивал известий XI и XII веков и мнение Карамзина было естественным и необходимым следствием Шлёцеровых мнений о Несторе.
О продолжателях Нестеровых Карамзин рассуждает иначе, чем предшествовавшие ему исследователи, то есть, собственно, один исследователь — Татищев, потому что Шлёцер здесь буквально копирует последнего. Карамзин, во-первых, не помещает Сильвестра в числе Нестеровых подражателей, как то сделал Татищев; потом мы уж сказали, что Карамзин отвергнул все те лишние известия, которые находились в списках, вошедших в состав татищевского свода, и не встречались в списках, до нас дошедших: вот почему Карамзин не упоминает о том из подражателей Нестора, который так любил описывать наружность князей и которого потому Татищев называет искусным в живописи; по мнению же Карамзина, все эти описания наружностей выдуманы самим Татищевым. Карамзин в числе продолжателей Нестора помещает автора того отрывка, в котором рассказывается об ослеплении Василька Тере-бовльского, потом указывает безыменных летописцев: Новгородского, Суздальского, Киевского, Волынского, Псковского. Вся характеристика наших летописей заключается в следующем замечании: «К сожалению, они (летописцы) не сказывали всего, что бывает любопытно для потомства; но, к счастию, не вымышляли, и достовернейшие из Летописцев иноземных согласны с ними». Этот отзыв, несмотря на свою краткость, любопытен и важен: долговременное пользование летописями, внимательный пересмотр множества списков с целию собственно историческою для представления по ним судеб государства заставили Карамзина отказаться от того односторонне преувеличенного мнения, какое было высказано Шлёцером о летописях. Карамзин избежал и другой ошибки Шлёцера, то есть собственно Татищева, который говорит[7], что после 1156 года «по разным спискам видны разные дополнения по 1203 год, где уж во всех летописях разница находится, и хотя редко где противоречат, но в порядке дел один то, другой другое прежде положил или пропустил, також по пристрастиям или обстоятельствам один сего, другой другого оправдает». Из этих слов Татищева Шлёцер вывел, что до начала XIII века для каждого времени был только один летописец, который начинал там, где предшественник его окончил; что различия в суждениях летописцев начинаются только после этого времени. Карамзин не повторил этого ошибочного мнения, но и не опровергнул его, вследствие чего оно осталось в силе и воспрепятствовало некоторым позднейшим исследователям заметить, что и до XIII века для каждого времени был не один только летописец, что и до XIII века встречаем различные суждения, различные взгляды на одно и то же явление.
Сказав о продолжателях Нестора, Карамзин перечисляет лучшие списки летописей, причем говорит: «В каждом из них есть нечто особенное и действительно историческое, внесенное, как надобно думать, современниками или по их запискам». Эти слова недовольно ясны и повели позднейших исследователей к запутанностям. Начали рассуждать о записках, противополагая их летописям, делая их источниками для летописей; но надобно было показать прежде различие между записками и летописью. Словом записки мы переводим мемуары и, в смысле исторических источников, под этим словом не разумеем ничего более. Итак, в XI, XII, XIII и следующих веках у нас были мемуары! Конечно, не то хотел сказать Карамзин…
Подобно всем предшествовавшим русским историкам, первую главу своей «Истории» Карамзин посвятил рассказу о судьбе народов, населявших нынешнюю русскую государственную область до основания Русского государства. Эта глава превосходна, как искусный перечень преданий, живой рассказ событий, хотя должно заметить, что эти события взяты совершенно отдельно, без указания на связи их с событиями последующими. Зная утомительные исследования о том же предмете писателей предшествовавших (Татищева, Щербатова), нельзя не удивляться искусству, с каким Карамзин сделал первую главу своей «Истории» удобною для чтения легкостью рассказа, выбором подробностей; нельзя не удивляться здравому смыслу, с каким он обошел безрезультатные толки о происхождении народов и народных имен.