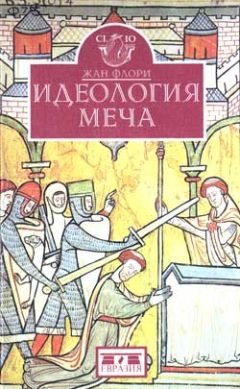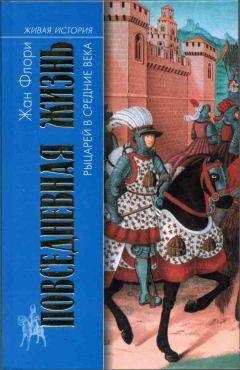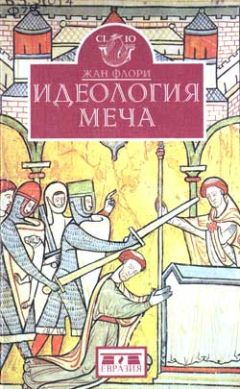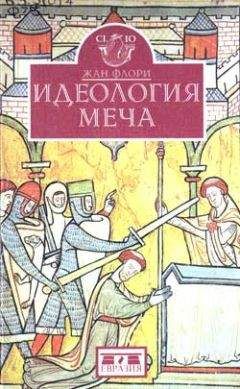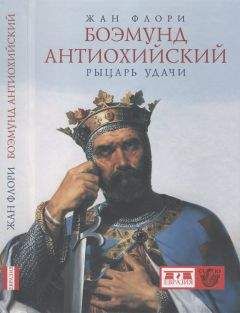Поэтому падение Западной империи для многих было гибелью целого мира, едва ли не концом света.[76] На какойто миг оно разрушило представление о двух градах. Однако идея справедливой войны устояла. Можно даже сказать, что от Исидора Севильского до Грациана это учение непрерывно уточняется. В соответствии с ним война, чтобы считаться справедливой, должна быть:
1) абсолютно необходимой, после того как исчерпаны все мирные средства;
2) предпринятой ради справедливой цели и с чистыми намерениями — защиты или возвращения похищенного имущества;
3) решение о начале войны должно приниматься государственными властями, а не частными лицами.[77]
Формирование папских владений и необходимость в их защите от лангобардской, норманнской и сарацинской угроз, с одной стороны, и формирование понятия о христианском мире — с другой понемногу привели к трансформации идеи справедливой войны в идею священной войны. Уже в 753 г. папа Стефан II направил послание магнатам Франкского королевства, где приравнял их возможную смерть ради защиты папы к мученичеству. Веком позже папа Лев IV в послании солдатам франкской армии, содержащем просьбу немедленно прийти на помощь папскому государству, которому угрожали сарацины, обещал воинам, если они умрут за столь справедливое дело, прямой доступ в рай: ведь они отдадут жизнь «за истинную веру, спасение отечества и в защиту христиан».[78]
Воссоздание христианского мира и еще в большей степени — воссоздание христианской империи также во многом способствовали возврату к аргументам, развитым св. Августином и Амвросием. Так, в ответе болгарам на вопрос о законности применения оружия, папа Николай I в 867 г. написал: человек, который сам не готовит оружия для защиты себя и своей страны, искушает Бога.[79] Он сделал и еще один шаг в разработке концепции справедливой в высшей мере войны, руководить которою надлежит папе, когда написал епископам Западной Франкии, что применение оружия дозволено Петром, князем апостолов, ради борьбы с неверными, а не затем, чтобы обращать его против верующих в Христа.[80]
Мы подошли к истокам новой концепции справедливой и священной войны: не одобряя ярость против возможных враговхристиан, она направляет ее против неверных, которые рассматриваются как естественные противники христианства. Конечно, как правильно заметил К. Эрдман, в эту эпоху еще нет ни настоящей доктрины священной войны, ни тем более связанной с нею этики. Похоже, что эта доктрина окончательно сформируется и укрепится лишь в X веке.[81] Тем не менее, надо признать, что ее идеологические элементы уже существовали, разрозненные, но явные, — в частности, в мышлении пап, которые, от Стефана II (752–757) до Льва IX (1049–1054), совершенно определенно обещали солдатам, которые умрут в сражении за них, царствие небесное: война за церковь, по их мнению, равносильна покаянию.[82] А ведь известно, что первые крестовые походы тоже имели характер покаяния.[83] Значит, мы можем сказать, что элементы, которым предстояло вызвать крестовый поход, существовали задолго до речи Урбана II в Клермоне. Урбан II должен был лишь собрать их для создания идеологии крестовых походов, «дерзкого синтеза священной войны и паломничества», который инициировала и которому придала направление церковь.[84]
Эта явная эволюция отношения христиан к войне повлекла за собой, разумеется, и новую оценку воина. Однако не факт, что обе эти эволюции протекали параллельно. Теперь мы должны разобраться в изменениях коннотаций слова miles в представлении церковных писателей — единственных свидетелей и, вероятно, главных создателей идеологии в период, который нас интересует.
V. «Miles» и «militia» до конца X века (семантическое исследование)
Первые века христианства привлекут наше внимание ненадолго. Мы уже видели, что слово miles здесь всегда означает солдата в чисто профессиональном смысле, безо всяких социальных и моральных нюансов. Однако вспомним, что в подражание святому Павлу[85] церковные авторы, повествуя о борьбе христиан с силами зла, часто используют военную терминологию, что тем не менее вовсе не позволяет усмотреть у них какоето подобие идеи приятия насилия.[86] Эти метафоры используются так часто, что слово miles естественным образом начинает применяться к христианину, ведущему духовную борьбу. Поэтому же слово paganus,которое до начала IV века означало просто «штатский» в противоположность «военному», с этого времени начинает употребляться все чаще (а с 420х годов — только) в смысле «нехристианин» в противоположность «верному», истинному солдату Христа.[87]
Кстати, эти метафоры привели церковных писателей первых четырех веков к терминологическому противопоставлению militia mundi (воинства мира) и militia Dei (воинства Бога), где последняя — упорядоченная и дисциплинированная совокупность христиан,[88] отряд мирных солдат, вооруженных духовным оружием, о котором говорил святой Павел.[89] Milites christi[90] в своей религиозной жизни ведут непрерывную борьбу, но они могут одержать победу и триумфально вступить в рай, как победоносный miles mundi триумфально вступает в свою страну.[91] Военным значкам (sacramenta)противопоставляется хоругвь Христа. Военной присяге (sacramentum), которая приносится при поступлении на службу, противостоит христианское обязательство крещения, которое получит то же название.[92]
Как мы видим, термин miles ухристианских авторов имеет двойственный смысл. В похвальном значении он означает христиан; с уничижительным оттенком применяется к солдатам и даже, в расширительном смысле, ко всем людям, которые служат (militant)миру, свету, злу. Это противопоставление и смещение смысла к «служению» усилятся в течение V века, когда подлинная духовная борьба, то есть посредством медитации и молитвы, становится уделом уже не простых христиан, а только избранных — священников и монахов, полностью отошедших от мирской жизни. Вот почему Максим Туринский, как мы видели, противопоставляет militia christi клира и militia saecularis мирян.[93] Первая в какойто мере наследует ореол мучеников героических времен, вторая — нечистоту языческого мира, на смену которому она приходит. Служба Богу (militia Dei)становится делом священников и особенно монахов. Она сочетается с образом жизни, достоинства которого напоминают добродетели античных воинов, как их описывали римские писатели: абсолютное повиновение, воздержность, физический труд, целибат. Все эти требования, порой более строгие (особенно в отношении безбрачия), можно найти и в монашестве.
Впрочем, устав святого Бенедикта середины VI века свидетельствует о значительном смещении смысла слова, которое мы уже отметили[94] и которое подтверждает верность нашего анализа: здесь слово militare уж без всякой двусмысленности означает невооруженную службу, a milites — монахов. То же противопоставление служб и, возможно, «сословий» (etats) встречается в большинстве текстов по X век. Слова militare и miles все больше связывают со службой, о чем свидетельствует, например, послание Карла Великого, датируемое периодом 780–800 гг., в котором он предписывает своему белому духовенству быть набожным и преданным, как надлежит служителям церкви, milites ecclesiae.[95] Капитулярий Людовика Благочестивого за 829 г. повелевает не оставлять в небрежении обучение milites sanctae ecdesiae (служителей святой церкви), ибо оно необходимо для выполнения их обязанностей.[96] Есть даже свидетельства, что в IX веке слово militare относили и к службе очень невысокого ранга, не обязательно связанной с армией или церковью. Так, в двух сообщениях о servi (сервах), которые женятся на ancillae (служанках), уточняется, что им нельзя будет служить (militare)другим лицам, кроме своих господ.[97] Это значение слова как «люди на домашней или, по крайней мере, гражданской службе» встречается и у Хинкмара Реймсского, который в середине IX века использует слова militare — milites для обозначения и службы Богу, и военной службы, и домашней службы: в послании епископов Людовику Немецкому, составленном ок. 858 г., он напоминает, что епископы служат — militant — не земному царю, но небесному.[98] В своем трактате «De regis persona et regio ministerio» он использует проведенное святым Августином различие между справедливыми и прочими войнами, чтобы снять ответственность с солдат (milites), которые не грешат, если ведут войну во имя Бога.[99] Наконец, в трактате о порядке, который должен соблюдаться в королевском дворце, он делит разные функции службы на три ordines (категории), большинство из которых не может иметь военного характера, но тем не менее относится к службе королю. В первый ordo входят milites,не занимающие конкретных должностей, но получающие во дворце пищу, жилье, золото, серебро и лошадей. В них можно видеть солдат, но это сомнительно.[100] Второй ordo включает молодых людей, связанных со своим господином и распределенных по различным службам дворца.[101] Наконец, третий состоит из риеп (юношей) и vassalli,больших и малых, которых тем самым не допускают до греха, краж и грабежей.[102] Конечно, было бы рискованно видеть в этом тексте точное описание дворцового управления во времена Карла Великого, пусть даже доказано, что Хинкмар использовал утраченный текст Адаларда Корбийского.[103] Для нас не очень важно, что Хинкмар перенес на двор Карломана, для которого, вероятно, написал «De ordine», некую искусственную модель италийского двора.[104] Запомним, что во времена Хинкмара значение «службы» в словах militare — miles берет верх над значением «войны», даже если и включает его.