Одновременно с открытием выставки в Кройцберге в дни, когда отмечалась полувековая годовщина нападения гитлеровской Германии на СССР, российско-германская общественная организация «Мюльхаймская инициатива» провела презентацию книги «Вырваться из этого безумия. Немецкие письма с Восточного фронта» [818]. Документы были извлечены из закрытых прежде наглухо фондов Особого архива (Москва), совместно изучены и опубликованы российским архивистом Анатолием Прокопенко (при участии литераторов Анатолия Головчанского и Валентина Осипова) и немецкими историками Утой Даниэль и Юргеном Ройлекке.
Около трети объема книги (67 писем из 200) составляет не доставленная адресатам корреспонденция из сталинградского окружения. «По моему мнению, — писал в предисловии к сборнику Вилли Брандт, — эти документы, именно в силу их индивидуального характера, представляют для ныне живущих запоздалую возможность извлечь уроки из опыта военного поколения, уроки того, как можно “привыкнуть” к войне, уроки того, во что превращает людей война. Хотелось бы, чтобы опубликованные здесь письма стали бы посильным вкладом в то, чтобы изгнать войну из человеческого мышления» [819]. Немецкие публикаторы отмечают, что содержание писем с Восточного фронта, этих «камешков мозаичной картины войны», резко «отличается от прежних трактовок историков», «выпадает из общепринятых стандартов» [820].
Современные германские исследователи сражения на Волге справедливо полагают, что в их работах «нет окончательных ответов» на поставленные вопросы, что задача написания «критико-аналитической истории» великого события войны все еще впереди.
Существует ли, — спрашивают Герд Юбершер и Вольфрам Ветте, — база для совместного с российскими авторами изучения Сталинградской битвы, если «для каждого из бойцов Красной армии она была частью справедливой, оборонительной войны, а для немцев — вопреки пропагандистскому туману — эпизодом захватнической, преступной истребительной войны» и если «за прошедшие 50 лет ничего не изменилось»? [821] Такая основа существует, это — восприятие войны как трагедии обоих народов, это — стремление восстановить правду о войне, какой бы горькой она ни была.
После 1990 г. был упущен шанс интеграции обновленной историографии ГДР в общегерманскую историческую науку. Не оправдались надежды американского ученого Джорджа Иггерса на то, что «многие историки ГДР будут включены в деятельность научных институтов новой Федеративной Республики» [822]. Верх взяли нетерпимость и опасение конкуренции.
«Дискуссии с марксистскими теориями, которых придерживались ученые ГДР, — заметил Юрген Кокка, — всегда были важной частью, продуктивным стимулом к формированию собственной системы понятий и теоретических заключений. Только в Германии сосуществовали марксистско-ленинская и так называемая буржуазная историческая наука, что придавало особую окраску обеим германским историографиям. Конечно, влияние западногерманской исторической науки на историческую науку ГДР было более значительным, чем обратное воздействие, но и для историографии ФРГ результатом этого напряженного взаимодействия была, наряду с импульсами развития, ее самобытность. Этого больше нет» [823].
После объединения восточногерманские историки оказались сначала в роли подозреваемых и проверяемых различными строгими комиссиями, а затем и в роли лишенных возможности работать в университетах и академических учреждениях. Восточногерманская историческая наука, используя выражение Курта Финкера, «расплющена и искоренена» [824]. В точности отражая базовую модель ФРГ-изации потерпевшей крушение ГДР, писал Вольфганг Бенц, западногерманские власти, встав в «фальшивую позу победителя», превратили ученых Германской Демократической Республики в людей второго сорта — «неравноправных» и «побежденных» [825]. В лингвистическом обиходе даже появился термин siegeswestdeutsch («победно-западнонемецкий») — обозначение языка, которым разговаривает победитель с побежденными [826].
Новые администраторы, очевидно, ощущали себя «культуртрегерами», выполняющими свою миссию в условиях «научной пустыни». Но со стороны, — отмечала «Berliner Zeitung», — они выглядели как «прусские колониальные офицеры» [827]. Вольфганг Моммзен (1930–2004) считал, что повсеместное изгнание из научных институтов восточногерманских историков будет равнозначно «интеллектуальной колонизации», «продолжению прежней опеки над наукой, но с другим политическим знаком» [828].
Бездумно разгромлены научные школы, обладавшие заслуженным международным авторитетом. Речь идет о школах, достигших результатов, которых, по словам Карла Хайнца Рота, «историография ГДР никак не должна стыдиться» [829]. После ликвидации Академии наук ГДР был закрыт Институт истории. Из университетов и научных институтов были изгнаны как раз те ученые, которые активно выступали за обновление всей системы исторического образования и исторических исследований.
В расцвете сил вынужден был покинуть кафедру Берлинского университета имени Гумбольдта крупный специалист по истории Третьего рейха Курт Петцольд, которого отправили в отставку с абсурдной формулировкой «профессиональная непригодность». В извещении ректората в полном противоречии с фактами утверждалось, что качество научных работ Петцольда определялось «доктринерскими и пропагандистскими моментами». В черном списке оказался и основатель Йенской научной школы по истории политических партий профессор Манфред Вайсбеккер. Жертвами чисток стали десятки исследователей.
Увольнение профессоров-историков, как правило, достаточно откровенно обосновывалось следующим образом: их работы «базируются на марксистской концепции научных исследований» [830]. За основу взят, сокрушается Рот, западногерманский стандарт, в рамках которого «нет места для социалистических и марксистских течений», а «левые позиции рассматриваются как оглупленные и безвредные маргинальные явления» [831]. К аналогичному выводу пришел Курт Петцольд: если в «новой ФРГ» говорят о «методологической открытости исторической науки», то, очевидно, имеют в виду «открытость при условии исключения приверженцев исторического материализма» [832].
В 1970-е и в начале 1980-х гг. немалое число западных исследователей полагало, что теория тоталитаризма устарела. Выражались мнения о том, что «классическая теория тоталитаризма, базирующаяся на сопоставлении национал-социализма и сталинизма, утратила свое значение» [833]. Но этого, увы, этого не случилось. В «новой ФРГ», кажется, произошло «тихое торжество» концепции тоталитаризма. Ее нарочито упрощенная, откровенно непродуктивная версия сводится к прямому уподоблению политических режимов Третьего рейха и ГДР. Сторонники нового издания теории тоталитаризма не без основания пишут о ее «ренессансе». Фридрих Шорлеммер, теолог и публицист, один из основателей оппозиционного движения в бывшей ГДР, выражает тревогу по поводу распространения «антикоммунистически мотивированного антитоталитаризма», который в корне пресекает «любую дифференциацию» прежних режимов [834].
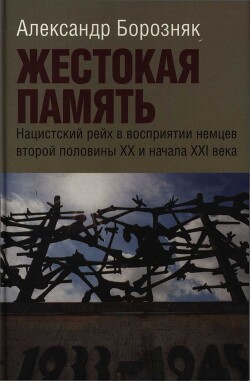
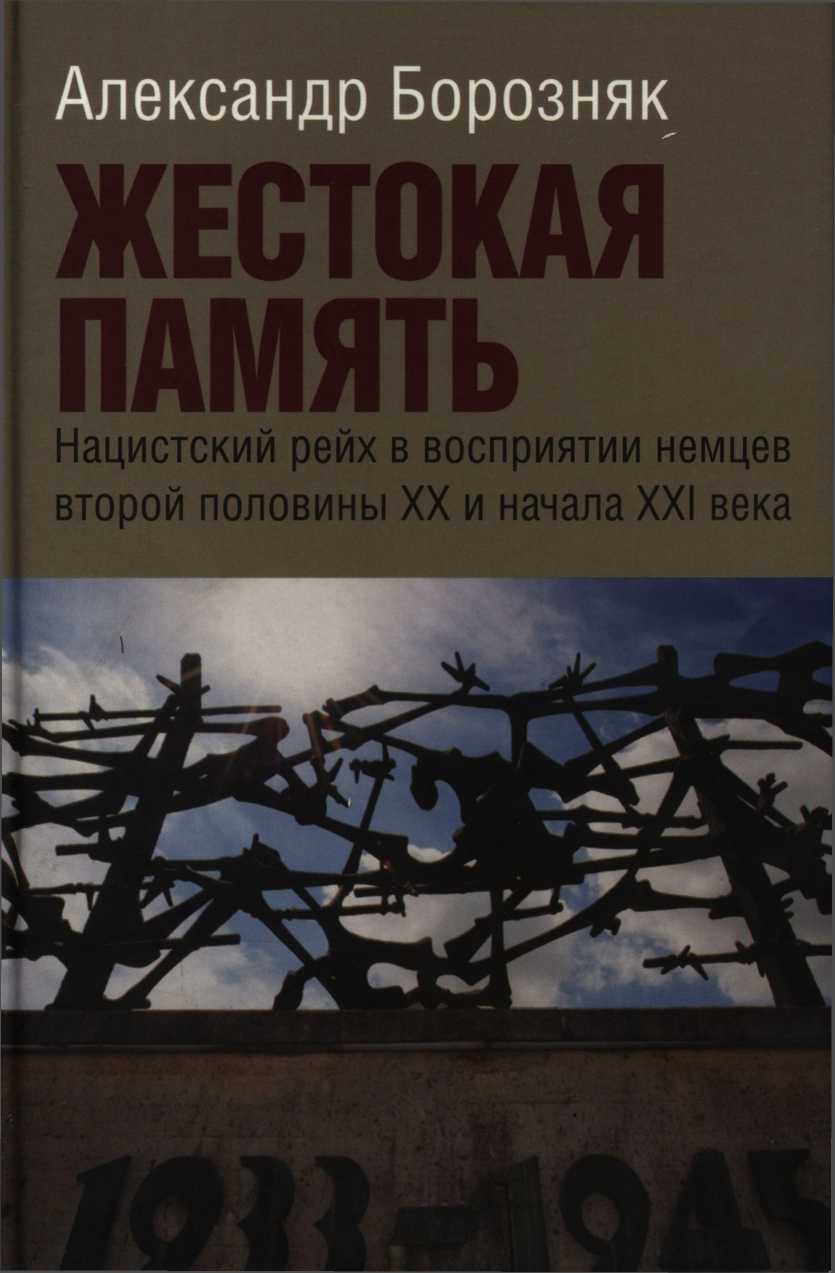



![Владимир Рыбин - Включите вашу память [=Если разбудить память]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)