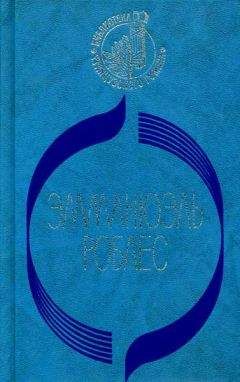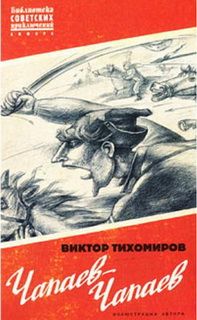Признаться, мы все ждали худого конца. И как его было не ждать? Если уж так легко сорвали митинг и не возобновили его, если уж так легко взяли нас и посадили, - отчего ж и не кончить нас столь же легко. Мы всецело у них в руках. Мы - да еще десяток в штадиве - единственное им препятствие на пути к становлению с в о е й власти... В чем же дело? Отчего не предположить что нас выведут и расстреляют. Разве сами мы, подняв восстание, где-нибудь в белогвардейском стане и захватив белую головку, не можем вгорячах "послать ее в штаб Духонина"? Конечно, можем. А тут еще такая необузданно дикая толпа. И никаких принципов. Никакого, по существу, руководства. Отчего не предположить? И мы ждали. Сам собою угас, прекратился разговор. Наши соседи тоже притихли - верно, думали о том же, что и мы, того же ждали... В каморке мертвая тишь. Чернел, сгущался полумрак. Я придвинулся к окошку, снял сапоги, протянулся, примостился и, по привычке, вытащил клочок бумаги, вкривь и вкось начал записывать свои мысли в столь необычном состоянии. Я не видел строк, писал наугад. Но хотелось записать именно т е п е р ь, в самый этот редкостный момент жизни...
Так прошло часа два... Вдруг за дверью, в коридоре какая-то возня. Слышно, как быстро подошли к нашей каморке несколько человек и о чем-то заговорили со стражей, - нас оберегали двое с винтовками, стоявшие за дверью. Не то спрашивали, не то уговаривали, не то бранились, - не разберешь. И тут же завизжала, растворилась тяжелая дверь. Чужой голос зычно рявкнул во тьму каморки:
- Здесь Фурманов?
Мы замерли. Насторожили уши. Сразу у меня словно оторвалось сердце и упало. Во рту будто полили холодными мятными каплями, дрогнула и задергалась нижняя губа судорогой, как электрическим током, дернуло ноги и руки, взгляд застыл и впился в дверь, откуда рявкнул голос, - все тело напряглось, застыло, окаменело.
Мы промолчали. А зычный голос снова:
- Фурманов здесь?
- Здесь, - отвечаю ему из темного угла и голосу стараюсь придать здоровую, крепкую бодрость.
- Выходи...
- Куда?
- Выходи.
- Я босой.
- Все равно - выходи босой...
И вдруг нам всем стало ясно:
"Уводят расстреливать!"
Я на прощанье друзьям:
- Ведут кончать... Прощайте, ребята.
- Ну, что ты... это, верно, на допрос... - успокоил было Мамелюк. И Бочаров и Кравчук что-то шепнули утешительное, а слабонервный Пацынко дрожал и в смертельном ужасе ни слова не мог выговорить, только прижался к стене и как-то странно, страшно глядел оттуда прямо мне в лицо, будто говорил: "Кончено... А за тобой и меня поведут..."
Но что же делать, что делать?
Я сжал руку первому Мамелюку:
- Прощай...
А в голове молнией мысль:
"Умереть надо хорошо... Надо умереть не трусом... Но как не хочется, о, как не хочется умирать..."
- Я не пойду, - вдруг заявил я им неожиданно для себя самого. Приведите кого-нибудь из членов боеревкома - с ним пойду, а с вами без него не пойду...
Но в эту минуту произошло что-то странное. Мы видим, как эти пришедшие, что столпились в просвете дверей, занервничали, заторопились, не стоят на месте... И вдруг они опрометью кинулись из каземата... Мы ничего не понимали... А к дверям уж кто-то торопился, мы слышали чьи-то новые шаги...
- Ба, Муратов...
Он мигом сорвал с носа пенсне, быстро проговорил:
- Товарищи, мы вас сейчас освободим.
- Как?.. Муратов... Как освободим?
- Так вот, сейчас выпустим...
Мы слушаем и не верим тому, что слышим.
- Каким образом, Муратов? Скажи!
- Потом, потом...
И он заторопился, ушел за дверь, а через минуту вернулся снова. Под стражей нас вывели из каморки и повели в помещение боесовета. Боесовет заседал в полном составе.
- Пожалуйте с нами на заседанье, - нагло улыбаясь, заявил Чеусов.
Мы все еще путем ничего не понимали. Но решили держаться с достоинством:
- Какое заседанье? О чем нам совещаться?
- А, видите ли, это просто недоразумение... Вы извините, что так с вами вышло... Боесовет совершенно этого не знал и сразу не мог приостановить, но вот... видите... как только он обсудил - он тотчас же вас и выпустил... Вы извините, это просто недоразумение...
Мы ему ни слова в ответ. Мы еще в те минуты ничего не знали толком, как и почему нас освободили, мы это узнали только позже, у себя, в штадиве.
- Посовещаться надо относительно того, какой теперь власти оставаться в области.
- Отлично...
И мы уселись все за широкий стол. Они всю левую заняли часть, мы правую, а посередине - "представители комитета партии".
Открылось заседание.
Уж кстати надо сказать и о том, почему нас так скоро освободили. Не все члены боесовета были настроены так буйственно, как Вуйчич, Букин, Караваев, Петров, не все желали и добивались нашего расстрела. Между ними, главарями, не было полного ладу, не существовало единого мнения. И вот, чтобы решить нашу судьбу, они решили созвать представителей от всех тридцати с лишком крепостных рот, опросить их, и что скажут эти представители, то и делать. И, как потом мы узнали, масса красноармейская значительно поколеблена и разволнована была нашим выступлением на митинге, на некоторое время была сагитирована и перестала видеть в нас "злейших врагов", а увидела людей, с которыми может говорить и даже... договориться! Словом, когда собрались эти тридцать - сорок пять представителей от рот, они все голосовали за немедленное наше освобождение ("против" или "воздержалось" что-то двое или трое всего), за освобождение и возобновление переговоров... "Активисты" боесовета, - так называли себя те, что были настроены к нам непримиримо и добивались расстрела, активисты были озадачены, обозлены и раздавлены этим постановлением собравшихся. Так мы и решили, что это именно они, активисты, в ту критическую минуту ворвались в каземат и хотели нас сгоряча расстрелять, пока не успели освободить - а там разбирайся, когда дело будет сделано! И как мы ни стремились узнать, кто же именно ворвался в каморку, - узнать не могли. Поспешность, с которой они подбежали к двери, торопливость, с которой требовали от меня выходить и следовать куда-то за ними, даже... босого, затем их неожиданное, внезапное бегство, когда заслышали шаги Муратова и других с ним, шедших нас освобождать, - все это говорит за правильность общего мнения о предполагавшейся расправе с заключенными.
Но так или иначе - беда пока миновала.
Мы очутились на заседании боесовета.
Вновь и вновь стоит этот роковой вопрос - о власти.
Крепостники говорят:
- Мы вам предлагаем влиться... Теперь только мы настоящая власть... и даже мы приказ об этом издали... Мы вам предлагаем... влить в наш боевой совет ваш военсовет...
- Вы предлагаете нелепость, - заявляем мы им. - Подумайте только, что из этого выйдет: высшей властью считается власть крепости. Затем...
- Нет, не крепости одной, - отражают они удар, - тут и вы будете... Военсовет...
- От этого дело не меняется; вы же предлагаете нам "влиться", а это значит вот что: существует г л а в н а я власть - это власть крепостная, и есть власть в т о р о с т е п е н н а я - это та самая, что до сих пор была... И эта вторая растворилась в первой... Но ведь эта вторая, "старая"-то власть, - вы понимаете ли и помните ли это, товарищи, - она ведь и есть утвержденная центром...
- А что нам до того? - огрызаются крепостники.
- Как что? Да вы же республику семиреченскую создавать не будете? Так создавать, чтобы она вовсе не связана была с Ташкентом, то есть с центром вообще?
- Конечно, нет...
- Так неужели вы думаете, что центр так-таки совершенно спокойно и отнесется к тому, что здесь свергнута старая, им утвержденная власть, а образовалась новая, ему незнакомая...
- Да мы же будем вместе...
- Э... нет, это не совсем вместе, когда вы предлагаете влиться... И он, Ташкент, знаете, что может нам всем вместе пищик тогда поприжать пошлет к черту, да и все тут... не признает... а подчиняться не будем - и пристукнет, да...
Этакая логика, видимо, озадачила мятежников. Они не находили, что нам возразить. А мы ловили момент - ловили, но помнили, что зарываться сразу не надо, и пока что были готовы ограничиться на малом.
- Давайте вот так, - предложили мы им. - Военсовет - власть государственная, не так ли? С военсоветом и Ташкент станет говорить, как со с в о е й организацией, - так давайте не его вольем, а в него вольем ваш боесовет: тогда с нами и считаться в центре станут, и в то же время ваш орган фактически будет у власти...
- Зачем же нам вливаться, коли сила за нами... Пусть наоборот...
Но мы скоро их уломали, сбили азарт. И все уж было слажено, договорено, кончались споры, хотели решать так, как мы им предложили.
В эту ответственную минуту посредине стола поднялась, подобно греческой пифии, сухопарая Штекер, партийная представительница.
- Не влиться, а с л и т ь с я надо на равных правах, по равному числу членов, - вдруг брякнула она неожиданно.
Мятежники уцепились за это спасительное предложение. В самом деле: и у власти они, и центром будут, верно, признаны, и престиж не уронят своего боесовета...