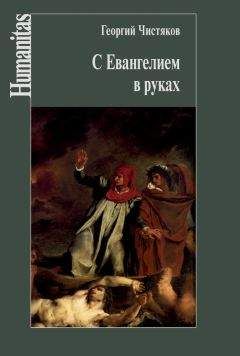ты из высказываний Александра выбросишь то, что касается диадемы, Аммона и его происхождения [596], то остальные покажутся тебе изречениями Сократа, Платона или Пифагора. Мы не будем рассматривать то, что начертали ради восхваления поэты под его изображениями и статуями:
Кажется, что говорит эта статуя, глядя на Зевса:
Зевс, на Олимпе цари, землю же мне предоставь [597],
ведь их волновало не благоразумие Александра, а его сила. То же самое можно сказать о словах Александра: «Ведь я сын Зевса». Все это, как я уже говорил, сочинили поэты, льстившие его удаче, мы же обратимся к подлинным изречениям Александра, начав с того, что было сказано еще в юности. Когда друзья убеждали Александра выступить в Олимпии, так как он был самым быстроногим из своих сверстников, он спросил у них, будут ли его соперниками цари, и, получив отрицательный ответ, сказал, что такой спор будет несправедливым, поскольку в нем или царь победит простых людей или он сам будет побежден простыми людьми [598]. Когда его отец Филипп, раненый во время войны с трибаллами [599] копьем в бедро и избежавший большой опасности, сокрушался по поводу своей хромоты, он ему сказал: «Не огорчайся, отец, и смело ходи на виду у каждого, поскольку теперь каждый шаг напоминает о твоем мужестве» [600]. Разве не виден здесь образ мыслей философа, который благодаря вызванному подвигами воодушевлению на телесные недостатки не обращает внимания? А как он радовался своим собственным ранам, поскольку каждая напоминала ему победы над различными племенами, захваченные города и взятых в плен царей! Вот почему он не скрывал и не утаивал свои шрамы, а носил их как начертанные на собственном теле знаки доблести и мужества.
10. Если ему во время бесед или пирушек приходилось сопоставлять стихи Гомера между собою, в то время как другие отмечали какие-то другие стихи, сам он всегда как на особенно замечательный указывал на этот:
Добр и достоин, как царь, а также бесстрашен, как воин [601].
Этот стих иногда вспоминали, чтобы похвалить Александра, а сам он считал его для себя законом, поэтому можно сказать, что Гомер в одной и той же строке и похвалил мужество Агамемнона, и предсказал доблесть Александра. Когда же он, переправившись через Геллеспонт, осматривал Трою, представляя себе связанные с великими мужами события, кто-то из местных жителей пообещал отдать ему, если он хочет, лиру Париса, на что Александр ответил: «Она мне ни на что не нужна, а ищу я лиру Ахилла, отдыхая под звуки которой, он “воспевал деянья героев” [602], тогда как под лиру Париса, издававшую какие-то нежные и свойственные женщинам звуки, исполнялись любовные песнопения» [603]. Душе философа, безусловно, пристало любить мудрость и превыше всего ценить мудрых мужей, и Александру это было присуще, как никому из царей. О том, как он относился к Аристотелю, было сказано выше; музыканта Анаксарха [604] он считал самым достойным из своих друзей; Пиррону из Элиды, встретившись с ним впервые, он пожаловал десять тысяч золотых монет [605], а Ксенократу [606], бывшему близким другом Платона, послал в подарок пятьдесят талантов. Онесикрита [607], ученика Диогена-собаки, он назначил начальником над мореплавателями, как об этом сообщают многие историки [608], а будучи в Коринфе, беседовал с самим Диогеном [609] и был настолько поражен и обескуражен образом жизни и воззрениями этого мужа, что впоследствии часто вспоминая о нем, говорил: «Если бы я не был Александром, я был бы Диогеном», то есть «я бы занимался философскими рассуждениями, если бы не мог выражать свою философию через дела». Он не сказал «если бы я не был царем, я был бы Диогеном» или «если бы я не был богатым человеком и Аргеадом [610]» (ибо он не предпочитал удачу мудрости, а багряницу и диадему – суме и рваному плащу), но сказал: «Если бы я не был Александром, я был бы Диогеном», то есть «если бы я не намеревался варваров смешать с эллинами и обойти всю землю, очищая ее от диких нравов, добраться до пределов земли и моря, придвинуть границы Македонии к Океану, превратить в Элладу весь мир и распространить на всякий народ благозаконие и мир, то, конечно, я не предавался бы изысканным наслаждениям, пребывая в бездействии, а искал бы скромной участи Диогена. Но теперь, прости меня, Диоген, ибо я подражаю Гераклу, соревнуюсь с Персеем и иду по следам Диониса [611] – бога, который основал наш род и был моим предком; я хочу, чтобы эллины снова стали устраивать как победители хоровые пляски в Индии [612], а горцы и дикари, живущие по ту сторону Кавказа, вспомнили вакхические шествия. Говорят, что там есть какие-то приверженцы суровой мудрости наготы, святые мужи, живущие по собственным законам, они размышляют о боге, живут еще проще, чем Диоген, и даже в такой суме, как его, не испытывают нужды: они не откладывают про запас пищу, поскольку земля всегда приносит им ее неиспортившейся и свежей, реки утоляют их жажду, а падающая с деревьев листва превращает траву в удобное ложе [613]. Благодаря мне они узнают о Диогене, а Диоген – о них. И мне тоже следует “перелить монету” [614] и то, что было учреждено по обычаям варваров, переплавить по образцу государственного устройства эллинов».
11. Все это хорошо, но что нам показывают его дела: случайные успехи, жестокость на войне и неразумное применение силы или большое мужество и справедливость, большую сдержанность и благоразумие [615] человека, который во всем поступал благопристойно и разумно, руководствуясь трезвым и рассудительным расчетом? Клянусь богами, я не могу определить, что тут он проявил мужество, здесь – человеколюбие, а там – самообладание, потому что оказывается, что всякое его дело состояло из всех добродетелей сразу. Своим примером он подтверждал то утверждение стоиков, согласно которому все, что мудрец ни делает, он совершает, сообразуясь сразу со всеми добродетелями, и хотя кажется, что в каждом поступке играет главную роль одна добродетель, однако она привлекает все остальные и приводит дело к концу вместе с ними [616]. В военных предприятиях Александра можно увидеть человеколюбие, в кротости – мужество, в щедрости – рачительность, в пылкости – миролюбие, в любви – умеренность, в беспечности – отсутствие праздности, а в трудолюбии – упрямства. Кто еще соединял с военными действиями – праздники, а с торжественными