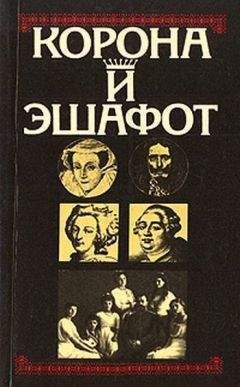Апология якобинской диктатуры неизбежно приводила к «научному» обоснованию террора. Оправдание революционного террора времен Великой французской революции, начавшееся в нашей литературе в условиях жестокой гражданской войны, получило новый стимул в период сталинских репрессий, когда политический ярлык «враг народа» (якобинское изобретение) обрекал на смерть или лагерную каторгу миллионы советских людей…
После 10 августа 1792 года, пишет Цвейг, Мария Антуанетта отчетливо сознавала, что дело идет к кровавой развязке. У нее оставалось все меньше надежд на возможность благополучного исхода. Казнь ее мужа Людовика XVI, гибель ее ближайшей подруги Ламбаль, чей изуродованный труп для пущего устрашения королевы протащили под окном ее камеры в Тампле, насильственное разлучение с сыном и дочерью, ежеминутная тревога матери за их участь, переворачивающий душу колокольный набат, не дающий забыть о разгуле террора за стенами Консьержери, постоянное глумление над личностью совершенно беззащитной жертвы — все это могло и должно было сломить куда более твердую натуру. Но произошло обратное: на глазах читателя «ординарный характер» в экстремальных условиях меняет свое качество, превращаясь в характер едва ли не героический. По мере неотвратимого приближения Марии Антуанетты к эшафоту под непрерывными и все более страшными ударами судьбы эта заурядная женщина (так, во всяком случае, убеждает нас Цвейг) поднимается на неведомую ей доселе высоту человеческого духа. На скамье подсудимых, оплевываемая со всех сторон, Мария Антуанетта, может быть, впервые по-настоящему осознает себя королевой, пусть и низвергнутой, но не утратившей королевского достоинства.
Поэтизация страданий обреченной жертвы, грубо оскорбленной женщины и матери достигает у Цвейга наивысшего накала в завершающих главах. Писателю жаль расставаться со своей героиней, ему хотелось бы по возможности оттянуть неизбежную развязку; он сопереживает ей в ее камере смертницы, сопровождает в телеге палача, восходит с нею на эшафот, напутствует и оплакивает ее… Цвейга, как и его учителя Достоевского, особенно волнуют такие критические состояния души, когда человек, быть может в первый и последний раз, перед лицом смерти раскрывается во всем своем величии или падении. Сила художественного мастерства Цвейга вызывает полное доверие к созданному им образу. Кстати, это подтверждают и документальные свидетельства о последних днях и минутах жизни Марии Антуанетты.
Генрих Иоффе, доктор исторических наук
Дом особого назначения
Сталинистская историография создала свой образ революции — благостный, лакированный. Он был ей необходим, он утверждал изначальную, «природную» суть административно-командной системы: безгрешные вожди указывали путь, по которому шли ликующие организованные массы. Но революция была иной. Героическое уживалось в ней с трагическим, жестоким. «Страшное в революции», — писал В. Бонч-Бруевич… Было ли это только ответом на белый террор, как теперь нередко утверждают? Нет, причина, по-видимому, лежала глубже.
Революцию, как и контрреволюцию, творили люди, которых классовая ненависть свела в смертельной схватке. Корни этой ненависти лежали в далеком прошлом, в угнетении, унижении и оскорблении одних другими. И когда она вырвалась наружу, ее уже трудно было сдержать. Да и сдерживали ли ее? Отступления нет, впереди либо полная победа, либо полная гибель. Таково было ощущение своего времени и своей судьбы.
Сегодня в отличие от прошлых лет мы не боимся своей памяти, а значит — не боимся и исторической правды. Как сказал М. С. Горбачев, «партия проявила большое мужество, взяв на себя ответственность за серьезные ошибки, просчеты, имевшие место в предшествующие годы» («Правда», 12.1.1989 г.). Разве это относится только ко временам сталинщины? Разве В. И. Ленин не говорил об ошибках и просчетах эпохи революции и гражданской войны, о том, что нельзя сделать небывшим то, что было?
1.
Описаний казни тысяч людей в страшные годы гражданской войны не сохранилось. Эти люди погибли безвестными в подвалах местных чрезвычаек, в застенках белогвардейских контрразведок. Но описания расстрела семьи Николая II дошли до нас во всех подробностях. Они остались от следователя Н. Соколова, в руки которого попали несколько лиц из охраны «дома особого назначения» и один из участников расстрела — Павел Медведев. Они остались также от некоторых уральских чекистов. В обоих случаях перед современным читателем открывается леденящая душу картина. Но для Соколова то, что произошло в Ипатьевском доме, — только жестокое преступление, для большевистских мемуаристов-уральцев — это выполнение пусть и сурового, но революционного долга.
Дилемма, рожденная гражданской войной… Как решать ее сегодня, более семидесяти лет спустя? Уйти от нее, не думать, не вспоминать? Но память все равно возвращает и будет возвращать нас к нашему прошлому: к его героическим и трагическим страницам, к страшному в революции. От памяти не уйти.
* * *
Когда думаешь о трагическом финале Романовых, возникают два главных вопроса: что, какие события привели к этому? При каких обстоятельствах это произошло, кто решил их судьбу? Только ответы на оба вопроса могут помочь понять случившееся.
В ночь на 1 марта 1917 года Николай II выехал из Ставки (Могилев) в Царское Село, до которого уже докатывались волны революции, начавшейся в Петрограде 23 февраля. Но доехать туда он не сумел: его поезду пришлось повернуть на Псков, где находился штаб Северного фронта. Здесь Николай II оказался перед альтернативой — либо продолжать карательную экспедицию во главе с генералом Н. Ивановым, которого царь назначил новым командующим Петроградским военным округом, либо пойти на «конституционные уступки» Государственной думе, поддержанной начальником штаба Ставки генералом М. Алексеевым и почти всеми главнокомандующими фронтов — великим князем Николаем Николаевичем, генералами Брусиловым, Эвертом, Сахаровым, Рузским и другими. После мучительных колебаний Николай пошел на компромисс: выразил готовность на формирование правительства, ответственного не перед императором, а перед Думой. Но — поздно. Когда командующий Северным фронтом генерал Н. Рузский сообщил о решении царя председателю Государственной думы М. Родзянко в Петроград, в ответ было выдвинуто новое требование: отречение Николая II в пользу наследника престола Алексея (ему было 13 лет) при регентстве брата царя — великого князя Михаила Александровича. И вновь генерал Алексеев и главнокомандующие фронтами поддержали это «крайнее» требование, убеждая Николая II отречься. Примерно в 3 часа дня 2 марта Николай II капитулировал: согласился отречься в пользу сына, но затем переменил решение и отрекся в пользу брата — Михаила Александровича. Утром 3 марта, уезжая из Пскова, он записал в дневнике: «Кругом и измена, и трусость, и обман». Высшие генералы, убеждавшие Николая отречься в пользу сына, фактически изменили присяге, которую они дали царю. В ней, между прочим, говорилось: «Верно и нелицемерно служить (царю. — Лег.), не щадя живота своего, до последней капли крови… Об ущербе же его величества интересов, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допускать потщуся…»
Почему же думские лидеры, а с их подачи и высшие царские генералы заняли явно «антиниколаевскую» позицию? Некоторые белоэмигрантские авторы, преимущественно из крайне правого лагеря, объясняли ее масонскими связями генералов — адъютантов царя; но если даже принять версию, остается неясным, почему в таинственный «масонский заговор» оказались втянутыми и те, кто, по данным самих монархических авторов, вовсе не принадлежал к масонам.
Нет, все объясняется самой жизнью. Как лидеры Государственной думы, так и высшие чины генералитета связывали с уходом уже дискредитированных в их глазах Николая II и его жены надежду на быстрый спад революционной волны и сохранение монархии во главе с новым, пусть и «конституционным» царем.
Они просчитались. Отречение Николая Романова не остановило революцию. До конца жизни генерал Алексеев (он умер в сентябре 1918 года в Новочеркасске) казнился своим «псковским грехом», говорил, что никогда бы не посоветовал императору отречься, если бы мог знать, куда пойдет революция. Но все это было позже, а тогда, в мартовские дни, политические расчеты оказались сильнее воинской присяги.
* * *
Оставляя престол, Николай Романов надеялся, что Временное правительство разрешит ему и его семье выехать в Англию. Правительство поначалу действительно выразило свое согласие на это. В одном из выступлений министр юстиции А. Керенский заявил, что лично доставит Романовых в Мурманск, на английский корабль. А британское правительство, со своей стороны, выразило готовность принять семью бывшего главы союзного государства, приходившегося к тому же двоюродным братом королю Георгу V. Оба правительства мотивировали свои решения гуманистическими соображениями.