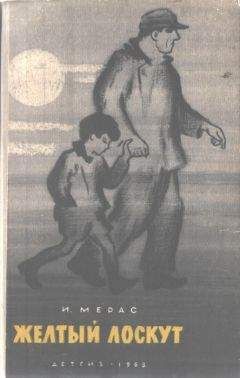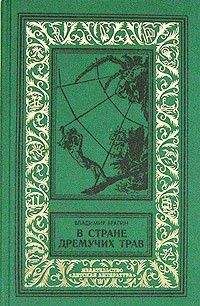- Так иди же скорее! - воскликнул Тимоша, ожидая, что Вальвик и Крузенштерн придут, чтобы освободить его.
Секретари не замедлили явиться. Оба они были молоды, белокуры, голубоглазы, высоки ростом и худощавы. Держались секретари так, будто пришли не в камеру к узнику, а к другу в гости. Они ни о чем не расспрашивали, но сами раскалывали много полезного: и о происках стольника Головнина, и о пленении им Кости, и об освобождении Кости по приказу королевы.
Когда они ушли, Тимоша понял, что симпатии шведов на его стороне и его заключение - дело нескольких дней.
Положив перед собою чистый лист, Тимоша, долго думал: о чем следует писать любезному другу Ивану Пантелеймоновичу, а чего писать не следует. И решил, что прежде всего нужно будет добиться признания за ним семиградским послом - права на неприкосновенность. И затем распространить это право и на его слугу Константина Конюховского. Обдумав все это, Анкудинов вывел; "Многодостойный: и честный господин Иван Пантелеймонович Розонлит! Я сюда уехал добровольно, не без рекомендаций и не без свидетельств, и не как бегуны и блудяги, потому, государь, пактам Московским с коруною Свейской не подлегаю". - Обосновывая свое право на нерикосновенность, Тимоша писал, что "пресветлый енерал Хмельницкий" рекомендовал его "пресветлому фиршту Ракочему Трансилванскому", а тот в свою очередь дал ему рекомендательные письма в Швецию и потому его следует вызвать в Стокгольм, "где я готов версфиковаться и княжескую природную невинность ясно показати". В конце Тимоша приписал: "От Морозова морского анъела, или палача, человек мой верной Константин Конюховской новым мучениям подвергся, и чтоб до моего приезда Королевые Величества его в руки кровавые отдать не велела".
Написав письмо, Тимоша. разделся и, загасив свечу, лег в чистую мягкую постель. Только сейчас, во тьме и тишине, он почувствовал усталость и боль. Ныло ушибленное в драке плечо, саднило кожу на руках, болела голова. Тимоша закрыл глаза, но картины минувшего дня проплывали одна за другой. Он видел искаженные злобой и злорадством лица Митляева и Воскобойникова, равнодушные маски Валъвика и Крузенштерна, досадливую гримасу Оксен-шерны.
"Враги вокруг меня и косные душой безучастные люди, - подумал он. Никому я не нужен и спрятал меня Оксеншерна не по доброте душевной, а для какой-нибудь собственной выгоды, про запас, как прячет рачительный хозяин старую вещь - авось когда-то ещё пригодится". И стало на душе у него так скверно, как не бывало и в Стамбуле. Там была у него надежда - избавившись от узилища, продолжить начатое далее. Пойти в степные юрты Закаспия, поднять на бой казаков, посадских, волжскую голытьбу, тряхнуть сонное Московское царство так, чтоб маковки на церквах закачались.
А когда уехал от гетмана Богдана, лелеял в сердце надежду - вот доеду до Пскова и подыму горожан на бой. Вспомню про былые их вольности - авось да схватятся за топоры, как только что хватались. Не вышло и это. Повывел царь крамолу ещё раньше, чем добрался он до московского рубежа. Затоптал костер, разметал головешки и в землю зарыл.
И остался князь Иван Васильевич сам по себе. И если только понадобится какому иноземному государю, то вспомнят, призовут и обнадежат. А не понадобится - сгинет ни за ломаный грош.
И когда понял Тимоша все это, осталось ему только одно - подороже продать две их жизни - его да Костину. И, быстро вскочив с постели, Тимоша зажег свечу и стал писать ещё одно письмо - королеве Христине.
"Всемилостивейшая королева! Пишет Вам всеми гонимый, несчастный человек, которому Вы одна можете помочь.
Недруги настигли меня в Ревеле и выдали Вашему слуге Эрику Оксеншерне, а он, не известно почему, посадил меня в тюрьму. И не знаю я, что ждет меня завтра, а более того скорблю о моем человеке Константине Конюховском - не попасть бы и ему в руки злодеев. Ибо немало знаю примеров, когда и в Волошской земле, и в Крыму, и в Стамбуле люди царской крови гибли от рук палачей.
И совсем недавно случилось такое с другом моим Александром Вазой, которого краковский епископ, изловив, посадил на кол. А был мне Александр друг и сберегатель и о королевском своем происхождении рассказал сам, не утаив ничего.
И если Вы, королева Христина, не поможете мне выйти из неволи, а прикажете отдать в руки моих недругов, то и моя кровь прольется, и будет то во грех Вам".
Тимоша написал все это единым духом, перечитал и, не перебеливая, отложил в сторону. Откинувшись затем на подушку, он сощурил глаза и подумал: "Не отдаст меня королева Воскобойникову - побоится греха. Тем более, что и брат её, Александр, доводился мне другом".
Первое письмо - к Розенлиндту - Тимоша отдал утром слуге, попросив вручить его губернатору. Второе же письмо - королеве - отдавать не стал, опасаясь, что Оксеншерна отправит его не по адресу, а перешлет своему дяде канцлеру.
Лишь через неделю, когда Тимоша понял, что слуга за невеликую мзду перешлет второе письмо с надежным человеком прямо в Стокгольм, он отдал и его.
За это время не он один отправил письма из Ревеля. О его поимке тотчас же сообщили в Новгород Великий Воскобойников и Митляев. Туда же написал обо всем случившемся и Эрик Оксеншерва, справедливо решив, что и без него нашлись в Ревеле люди, готовые поделиться радостной вестью с наместником новгородским князем Буйносовым-Ростовским. Оксеншерна же написал о поимке князя Шуйского и своему начальнику генерал-губернатору Карелии, Ингерманландии и Кексгольма графу Эрику Штейнбоку.
Вскоре пришли в Ревель и ответные письма. Новгородский наместник Буйносов просил "вора Тимошку тотчас же выдать головою", а старый, опытный и осторожный Штейнбок, напротив, советовал ничего не предпринимать, ожидая ответа из Стокгольма. И так как не Буйносов был Оксеншерне начальник, а Штейнбок, губернатор Ревеля решил подождать.
* * *
Обратный путь из Стокгольма в Нарву оказался для Кости ещё мучительней: десять недель от острова к острову шла навстречу неутихающим осенним штормам еле починенная шхуна Георга Вилькина.
В пути дважды кончались запасы и воды, и продовольствия. Шкипер Вилькин, оказавшийся на редкость жадным, обобрал Костю донага: снял с него новую заячью куртку, не побрезговал и старым кизилбашским ковром. А в конце пути и вовсе перестал его поить и кормить.
На семнадцатый день путешествия, в холодные и ненастные дни начала ноября, Вилькин, не довезя Костю до Нарвы, высадил его в устье Невы, и голодный, озябший Костя, завернувшись в старое рядно, пошел к ближайшей шведской крепости Ниеншанц, по-русски Канцы.
У ворот Ниеншанца он оказался в середине ночи. Шел дождь пополам со снегом. Костя долго стучал в ворота, пока, наконец, его впустили в крепость. Сторож разрешил ему переночевать в пустой старой конюшне. Костя лёг на гнилое, пропахшее конской мочой сено и долго не мог заснуть, несмотря на то, что все тело ныло от усталости, и от холода зуб не попадал на зуб.
Под утро он забылся в тяжелой полудрёме и на душе у него было тоскливо и неспокойно. Утром ему сказали, что князь Иван Шуйский арестован и сидит в Ревелъском замке.
* * *
О поимке Анкудинова царскими агентами и о том, что ныне загадочный русский сидит под стражей в тюрьме Ревелъского замка, Оксеншерна сообщил также и своему дяде канцлеру. Штейнбок подучил письмо через десять дней, в Стокгольм оно пришло тремя неделями позже.
В это время в шведской столице находился Янаклыч Челищев. От верных людей он получил известие о поимке Анкудинова одновременно с канцлером Оксеншерной, ибо один из матросов за немалую мзду взял от Воскобойникова письмо и тотчас же по прибытии в Стокгольм передал его царскому гонцу.
Не медля ни минуты, Челищев явился к Оксеншерне и потребовал выдачи "поимочного листа" на воров Тимошку и Костку.
Так как канцлер уже знал, что его племянник известил обо всем случившемся новгородского наместника Буйносова-Ростовского, то отказать в выдаче листа он не мог, и счастливый Челищев покинул дворец, полагая, что теперь-то оба супостата, наконец, окажутся у него в руках.
* * *
Однако же, выдав Челищеву "поимочные листы", старый канцлер засомневался: а не поспешил ли он с этим делом? Не выйдет ли от чрезмерной спешки какого-нибудь лиха?
И решил - как этого ему ни не хотелось - переговорить о князе Шуйском с королевой.
Христина была неспокойна и, слушая канцлера, думала о чем-то своем. Оксеншерне показалось, что она плохо спала: лицо королевы отекло, под глазами проступила нездоровая синева, щеки были бледны.
Канцлер говорил ей о князе Шуйском, а она неотступно думала о казненном поляками Александре Костке. Канцлер приводил резоны в пользу того, что русского князя надобно выдать царским слугам, ибо мир и союз с Россией сейчас для Швеции важнее всего, так как неизбежна война с Польшей, а Христина видела перед собою старую замшелую стену и возле неё лужи крови и растерзанного палачами тщедушного, бледного мужчину - почти юношу - и клубок бродячих псов, слизывающих кровь, и смеющихся солдат, потешающихся, что ещё живого человека грызут собаки, а он не может и руки поднять и даже крикнуть не может.