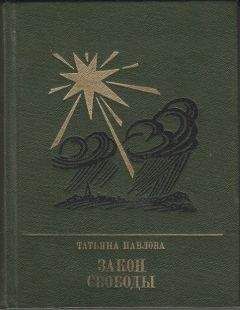— «Но разве ни один человек не будет богаче другого? — читал Джон. — В этом нет никакой надобности, ибо богатство делает человека тщеславным, гордым и угнетателем своих братьев; и оно же служит причиной войн. Ни один человек не может стать богатым иначе, как либо от трудов рук своих, либо от трудов других людей, помогавших ему… Богатые люди живут в довольстве, питаясь и одеваясь трудами других людей, а не своими собственными. И в этом их позор, а не благородство. Ибо давать — более благословенное дело, чем получать».
— Так! Так, замечательно! — не выдержал Уриель. — Благородство не в титуле, не в богатстве, а в душе! Внутри нас!..
— В труде благородство, вот в чем, — сказал Чайлд.
— А как все-таки быть, если кто-то не захочет работать? — спросил Роджер. Он стал совсем взрослым и очень походил на отца. Мать его, Рут, с младшими жила на севере, а он вернулся в Уолтон, к друзьям. Здесь он работал по найму, пас коров у соседей, как некогда Джерард, и посылал матери заработанные деньги.
— Милый, для этого и введен закон, — Полмер ласково улыбнулся. — Над работниками стоят наблюдатели, их выбирают каждый год. Они увещевают ленивых, а коли те не поддаются, наказывают. А над всей республикой — старейшины, парламент, правители. Ты читай, Джон, дальше. Там все сказано.
И Джон читал:
— «Выбирайте мужественных людей, не боящихся говорить правду, ибо это позор для многих в Англии наших дней, что они погрязли в вязкой тине рабского страха перед людьми. Выбирайте служащих из числа людей старше 40 лет, потому что в таком возрасте скорее встречаются опытные люди и среди всех этих людей скорее найдутся мужественные, поступающие честно и ненавидящие алчность…»
И чем больше он читал, тем большей надеждой наполнялись сердца тех, кто его слушал. Можно ведь, можно жить на этой земле в любви и мире! Можно установить такой закон, чтобы все были равны, все трудились на общее благо и наслаждались плодами своего труда. Можно открыть в себе свет и наполнить душу любовью к братьям, ко всем людям, ибо все мы — ветви одного древа.
Они, бедняки, всем сердцем соглашались с тем, что было написано в книге. Их платье износилось, башмаки были худы, а желудки всегда голодны. Их дети просили хлеба, а жены надрывались в непосильном труде. Им нравился справедливый закон: «Ни один глава семьи не позволит, чтобы к обеду или к ужину было приготовлено мяса больше, чем может быть израсходовано или съедено в его хозяйстве… Если же в семье какого-либо человека пища станет постоянно портиться, наблюдатель сделает ему выговор за это перед всем народом и пристыдит его за безрассудство. В следующий раз он будет обращен в слугу на двенадцать месяцев под надзором смотрителя, дабы он знал, что значит добывать питание…»
О, им было ведомо, каким тяжким трудом добывается хлеб насущный! Но внутренне они уже освободились. Они познали истинную цену вещей и верили, что может быть на свете мир, и справедливость, и радость. И готовы были работать для этой грядущей радости — работать руками на земле, которая их взрастила, и работать каждый день и каждый час в душе своей, искореняя злобу, жадность, зависть, неправду. К этому звал их невидимый учитель со страниц своей прекрасной книги.
А Джону грезился неведомый далекий мир. Возможно, века пройдут, прежде чем люди научатся жить, как братья.
В этот раз друзья разошлись поздно. Весенняя ночь стояла над холмом святого Георгия. Когда все вышли на улицу из дома Бриджет, Джон подошел к Полмеру.
— А можно я попрошу у вас эту книгу? — сказал он тихо. — На один день, а? Мне для сестры… Ей очень нужно это прочесть.
Полмер достал из-за пазухи завернутую в тряпицу книгу и молча отдал Джону.
— Спасибо! — сказал он. — Спасибо, завтра отдам! — крикнул он еще раз, уже спеша своей неровной, слегка подпрыгивающей походкой к дому.
Элизабет сидела у себя наверху, забыв загасить ненужную при свете весеннего раннего утра свечу, и читала не отрываясь. Она искала ответа на свои вопросы: где он? Что пережил за эти годы? Какой он теперь? Помнит ли?..
Нота печали явственно звучала с сероватых, наспех набранных страниц. Нота страдания. «О, сколь велико заблуждение и глубок мрак, объявший наших братьев. Я не имею сил рассеять его, но оплакиваю его в глубине моего сердца…» Из этого Элизабет заключала, что жилось ему невесело. Он будто жаловался ей, рассказывал, как бывало, о нелегких своих исканиях. «Мой дух, — говорил он, — углублялся в поисках основы этого священного учения, и, чем больше я искал, тем больше утрачивал, и никак не мог успокоиться и познать бога в моем духе, пока я не узнал того, что написано в этой книге».
Он, видно, был очень одинок эти годы. Сердце обожгла мучительная горькая жалость, когда она прочла: «И вот мое здоровье и имущество потеряны, я старею. Я должен либо просить милостыню, либо работать за поденную плату на другого…»
Элизабет вздохнула прерывисто и горестно. Она тоже была одинока. От Генри изредка приходили письма из-за океана — письма бодрые, но не длинные, из которых можно было понять, что он стал землевладельцем и даже принимает участие в управлении колонией. Он посылал и деньги, которые очень выручали обедневшую семью. Джон жил своей мужской, отдельной жизнью. Он стал очень серьезен, деловито управлялся с хозяйством их маленького имения и все свои силы отдавал работе в обществе друзей. Элизабет гордилась им и грустила об утрате их детской доверчивой близости. Джон, впрочем, звал ее не раз на собрания к Бриджет, но она ходить туда почему-то не решалась.
Френсис вышла замуж за Чарльза Сандерса и жила теперь в Лондоне, близ Судейского подворья: Чарли служил там адвокатом. Анна стала рослой, румяной, смешливой девушкой и вместе с матерью была более всего озабочена приисканием себе достойного жениха. С ней можно было говорить только о молодых джентри или судейских, о том, кто как на нее посмотрел или что сказал, кто сел с ней рядом в церкви, у кого сколько фунтов годового дохода и сколько земли…
Элизабет сидела дома, читала то, что приносил Джон, а также старые любимые отцовские книги, иногда ходила гулять на холм святого Георгия… Но нечасто. Воспоминания были слишком мучительны. И вот книга Джерарда лежала перед нею. Она читала всю ночь и не могла оторваться.
Эту книгу, «Закон свободы», он, оказывается, писал уже давно: он уверял Кромвеля, что предназначил ее ему на рассмотрение свыше двух лет назад, но беспорядки того времени заставили отложить ее в сторону. И, чем больше Элизабет читала, тем явственнее вставал в ее памяти один их ночной разговор на холме, над ожерельем далеких огней деревни…
Лазурные волны омывают зеленый остров, который, подобно изумрудной переливающейся раковине, встает над морем. Счастливые и свободные люди живут на этом острове. Мудрый и справедливый закон правит ими, мудрые и честные люди стоят во главе…
Тогда Джерард надеялся, что такой закон будет установлен в Англии в самое ближайшее время.
Закон… Он много говорил ей о законе. Одни люди мудры, другие глупы, одни ленивы, другие трудолюбивы, одни опрометчивы, другие вялы, одни доброжелательны и щедры, другие завистливы и жадны, ищут спасения только для себя и избытка в жизни… По этой причине им необходим закон, который должен стать правилом и судьей всех человеческих поступков, хранить общий мир и свободу. Однажды она сказала ему, что он — сам закон для нее…
Но что это? Где-то с середины книги появились незнакомые, несвойственные Джерарду раньше мысли. Нарушение закона… Лишение свободы… Солдаты, доставляющие нарушителя в палату судей… Если ленивые и корыстные будут увиливать от работы и не будут спокойно подчиняться закону, смотритель назначит им скудное питание и будет бить их кнутом, «ибо лоза уготована для спины глупцов», до тех пор, пока их гордые сердца не склонятся перед законом…
Нет, Джерард, при всей его доброте, — не безответный, не слабый, нет… Элизабет вспомнила, как твердо он требовал права оправдаться в суде, с каким упорством всякий раз возрождал колонию после разгромов — вопреки всему снова строил, сеял, вселял надежду в сердца работников… Он прав. Закон есть закон, он один для всех. Только так можно установить подлинную справедливость.
А пуще всего карается купля и продажа земли. Оба, кто продает и кто покупает, подлежат смертной казни как изменники делу Республики.
И армия имеется в его республике. Она содержится для обороны от иностранного вторжения либо поднимается для защиты от невыносимого гнета, чтобы свергнуть негодных правителей и покарать темных людей, ищущих своей собственной корысти.
Элизабет опять вздыхала. И удивлялась: где ссылки на откровение? На духа, явившегося ему ночью и произнесшего громовые слова? Где поиски бога? Ничего такого не было в «Законе свободы». Он земной и о земном. О людях, их жизни в этом мире, о справедливости мира сего. Высокой, но здешней, человеческой справедливости. А что будет там, за гробом? Горькие и трезвые слова звучали в ответ: «Постичь бога вне творения или узнать, что будет с человеком после смерти, помимо разложения его на сущностные элементы, — огонь, воду, землю и воздух, из которых он состоит, — есть уже познание за гранью черты или способности человеческих достижений…».