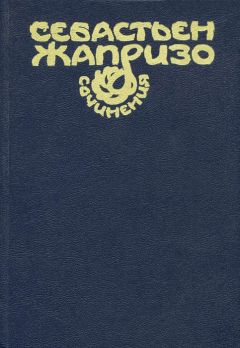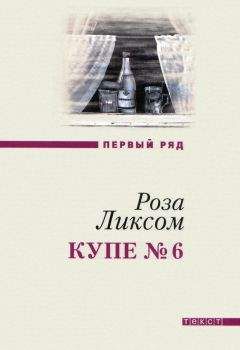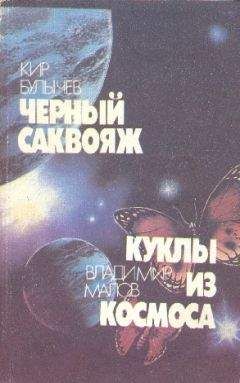Логика странная: никакой пользы в такой логике не прослеживается. А большой риск требует расчета. Он возвращает экспроприированные средства краевой организации П.С.-Р. Вне сомнений, ему понятно, что жандармская служба ждет, когда отяжелеет саквояж. Тогда я подаю знак, и агенты повисают у Скарги на руках. Эту радость эсер пообещал нам на вечер. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять его простую хитрость: дождаться сумерек и в темноте оставить нас с носом. Но чем мы гарантированы, что боевик не исчезнет раньше? Слежкой? Нет такой слежки, от которой нельзя уйти. Вот прямо сейчас поднимется и уйдет. Это у него получается хорошо. Задержать его, конечно, можно и здесь, и в трактире могли задержать. Но что толку, если неизвестно, где деньги. Поэтому он вроде бы и свободен, и как бы не узнан, хотя скорее всего знает про эскорт из филеров. Живинский считает надежной гарантией сообщение агента о вечерней сходке. Возможно, он прав, если агент близок к кругам Скарги. Но и сам Скарга обязан дивиться, что его не берут. Как легальный гуляет по городу, поселился в гостинице, и никто не стучит в дверь, не орет: "Скарга, сдавайся!" Да уж один этот несчастный Пан, убитый, как установил полицейский врач, выстрелом в висок около шести утра, перед выходом на работу, уже один вид этой бедной жертвы должен был принудить Скаргу к лисьей осторожности. Трудно понять этого беглого. Может, он и вовсе не думает, плывет на волне удачи. Ведь удачлив - этого не отнять, один побег из харьковской тюрьмы чего стоит...
За стеной послышались стоны пружин и шаги. Я понял, что эсер подошел к окну. Достаточно густая толпа двигалась по узкому тротуару. В таком множестве лиц Скарга филеров не отыщет. Но я одного разглядел - он весело болтал с дамой. Возможно, что и дама была нашим агентом. Но возможно, что в этой толпе бродят дружки эсера, "товарищи по партии", как они любят себя называть. И эти "товарищи" подают ему какой-то знак. Или он им. Например, закуривает папироску перед открытым окном, что может означать: "Ждите вечером". Или наоборот: "Не ждите вечером". Или - "Смывайтесь!". Или вот человек сдвинул шляпу на правое ухо. А стоит он как раз напротив окна Скарги. Такая жизнь, кругом безответные загадки. Господи, нормальному человеку трудно представить, из какого множества глупостей складывается революционная деятельность и борьба против нее.
Справа мне открылась часть Соборной площади со звонницами иезуитского костела* и башней ратуши, у двухэтажного губернаторского дома** прохаживались городовые. Полтора года назад из высоких дверей этого бывшего иезуитского коллегиума должны были вынести вперед ногами губернатора Курлова. Во всяком случае, так мечталось боевикам. Но Курлов жив, взят в Петербург, назначен шефом нашего корпуса, а эсер Пулихов лежит в земле. И проку от его акции никому и никакого. Наивные люди, подумал я, очарованные мечтой слепцы. Я испытывал к ним искреннюю жалость. Да знали бы они, что десятки чиновников и офицеров глубоко признательны им за убийство какого-нибудь губернатора или полкового командира, пристава или обычного городового. Сразу открывается вакансия, рывком идет карьера. За каждым креслом и местом давно выстроилась череда претендентов. Вслух они гнусное политическое убийство, разумеется, осудят и потребуют строжайших мер наказания, но в душе, но дома перед киотом помолятся за простачка-боевика, ценою собственной жизни подтолкнувшего их наверх. Вряд ли попал бы Курлов в шефы, не метни Пулихов в него самодельную бомбу. Повезло - не взорвалась, но все равно Курлов - как бы жертва террора. Да хоть бы в один день все министры и генерал-губернаторы пали от эсеровских пуль, назавтра сидели бы в опустевших креслах новые. Ну, кто-то погиб - личное невезение. Царей убивали - и ничего не изменилось. Цезаря закололи кинжалом. Убитый заменяется живым, а государство остается, его никто не развалит. Нет таких пуль. Все в его паутине запутаны - и те, кто против нынешней власти, и те, кто за нее. Господи, христианство сделали государственным, попы, как чиновники, утруждаются, полицмейстер все тайны исповедей ранее бога узнает... Так что же говорить о политических партиях, которые откровенно претендуют на власть? Но если власть, то как быть с "братством, равенством, свободой"? Власть - изначальное неравенство. Взяли власть, сели в кресла, начали командовать, принуждать "освобожденный народ" к спокойствию и работе. Любопытно, как эсеры с эсдеками собираются этот узел развязать? Все - братья, но одни командуют, другие пашут...
______________
* Здание костела в конце 40-х годов реконструировано под спортивные залы "Спартака".
** Бывший губернаторский дом на площади Свободы - памятник архитектуры начала XVIII столетия. Здание было занято под губернаторские кабинеты после присоединения Белоруссии к России. В наше время, в 60-е годах, обезображено реконструкцией.
В соседнем номере стукнул клапан рукомойника и заплескала вода. Скоро Скарга вышел из комнаты. Мне хотелось пойти за ним, но я не решился. Откроешь дверь - а он стоит напротив тебя, усмехается: мол, не тревожься, не убежал. И мало ли куда он мог выйти. По надобности - тоже причина. Нет, подумал я, надо держаться принятой роли. Сказал Скарга, что зайдет, - лежи и жди. А унесет ноги - это Живинского беда, он держит козырный туз донесения агента. Я вновь лег на кровать и постарался думать о сыне, чтобы не ломать голову над независимыми от моей воли поступками беглого эсера.
Он вернулся через четверть часа. И не один. Я обратился в слух. Проклятые пружины не позволяли мне вскочить и прижаться ухом к стене. Потом Скарга сказал своему посетителю длинную фразу громко. Я различил лишь три слова: "...десять минут... тихо..." У них стукнула дверь, и тут же ко мне вошел Скарга. Свой коричневый пиджак, сложенный подкладкой наверх, он держал на согнутой руке.
- Что, идем? - спросил я, приподнимаясь.
- Лежи, лежи, - успокоительно ответил он, скинул пиджак на стол, и на меня уставилось дуло никелированного пистолета. Я знал из дела, что этот пистолет отнят у доктора вместе с паспортом, часами, костюмом, шляпой и саквояжем, что в обойме восемь патронов и ни один из них вроде бы еще не израсходован.
- Ты что! - только и нашелся я возразить. В голосе своем я расслышал предательскую хрипотцу страха.
- Хватит врать, - сказал Скарга. - Там у меня привязан к стулу филер. Тот, в кепочке, что проверял нас в трактире...
"Осел! - подумал я с ненавистью. - Ведь чувствовал, что этот осел все погубит".
- Он кое-что мне поведал, - продолжал боевик, - не будем зря тратить время. Тем более, что я и сам не слепой.
- Ну, и что ты хочешь узнать от меня? - спросил я, стараясь собрать волю. Черная дырочка в никелированном стволе меня заворожила.
- Почему меня не берут? Твое задание? Когда намерены брать?
- Насколько знаю, Скарга, - ответил я, стараясь уйти от предательства, - тебя после ареста пытали, но ты ничего не выдал. Почему же ты хочешь меня сделать подлецом?
- Пытать тебя у меня времени нет, - сказал он ледяным тоном. - И я не умею. Я просто вгоню тебе пулю в лоб. И ты понимаешь, что другого выхода у меня не будет.
Ничего я не понимал, хотя и понимал, что все, что вижу и слышу, реальность. Спина моя налилась чугунной тяжестью, мне хотелось закрыть глаза и заснуть. Память воскресила картину, как я полз с тремя пластунами по сопке к японскому окопу за "языком" и падал с ножом на скованного ужасом японца; потом мне вспомнилось, как я отбивался саблей от штыка, и еще увидел себя впереди своей роты с зажженной папиросой в руке - я вел роту в атаку и курил на ходу с тою же медлительностью, как курят в салоне. Но теперь я боялся, по телу растекался страх и гасил мою волю. Этот беглый эсер не запугивал меня, он не блефовал, бесстрастное окаменевшее лицо говорило, что этот человек сдержит слово. Боевик предлагал выбор, и я подчинился.
- Ну что ж, - сказал я, - проигрыши приходится отдавать. - Кровь стучала у меня в висках, я лихорадочно обдумывал приемлемую меру признания. - Моя задача ограничивалась курьерскими обязанностями - взять деньги. Если дадут. По этой причине тебя не хватали. Но когда и как возьмут - я не знаю. Это дело местного управления...
Такой ответ, хоть и правдивый, не мог удовлетворить боевика; все это он знал или понимал. Я чувствовал, как нарастает его раздражение и формируется жесткая решимость объявить приговор. Рассказывать все под страхом смерти было противно моему достоинству, но молча ждать выстрела было мне тоже не по силам: панически, как мышь, я отыскивал спасительную лазейку. Если бы я сам не ломал волю людям, не требовал предательства в обмен на жизнь или свободу, то, наверно, продолжал бы твердить о своей неосведомленности, подвигая конфликт к трагической для себя развязке. Но я знал состояние ума при таком допросе. Каждое мое слово Скарга взвешивал на весах правды, соотносил с множеством обстоятельств, с прошлым, с неизвестной мне информацией. Скарга ожидал какой-нибудь следственной тайны, которая помогла бы ему увидеть невидимое и разглашение которой было служебным преступлением.