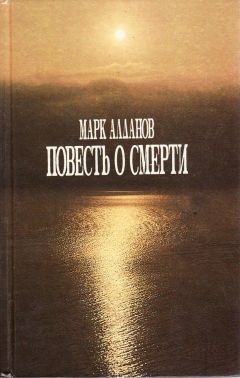Допрашивали его вежливо, даже почтительно. Намекали, что для него, в отличие от Кадудаля, дело, пожалуй, кончится сравнительно благополучно, что он может быть назначенным на службу в какую-нибудь далекую колонию, например в Гвиану. Вероятно, это был обман, принятый в таких случаях для получения откровенных показаний. Цель, однако, достигнута не была.
5 апреля вечером Пишегрю поужинал, выпил вина и лег в обычное время спать. На следующее утро в семь часов сторож Попон вошел в его камеру. Генерал спал, лежа на боку, подложив под голову руку. Сторож затопил камин и удалился. Но, по-видимому, что-то показалось ему странным: то ли, что генерал не проснулся, или уж очень тихо, странно тихо, было в полутемной камере. По крайней мере, через полчаса Попон решил снова войти в камеру. Пишегрю по-прежнему спал столь же неподвижно, в том же положении, все так же заложив за голову руку. Сторож приблизился к койке...
Генерал Пишегрю был мертв. Изо рта у него торчал язык. Вокруг шеи обвивалась затянутая черная петля. В другой конец петли была вставлена деревяшка.
Мемуары Фош-Бореля{20} дают ясное представление о суматохе и волнении, поднявшихся в это утро 6 апреля. Тюрьме скоро стало известно, что Шарль Пишегрю ночью покончил самоубийством, и притом самым необыкновенным образом: он удавил себя собственным галстуком, затянув петлю на шее вращательным движением рычага, которым ему послужил обрубок полена из камина. Одновременно с этой официальной версией шепотом передавали другую, еще гораздо более страшную. Она в то же утро выползла из тюрьмы в Париж и распространилась по всему миру: генерал Пишегрю не удавился — его удавили по приказу первого консула. Кто удавил — об этом шептали разное. По словам одних, четыре мамлюка были ночью введены в тюрьму. По словам других, дело выполнил парижский палач.
Мы здесь подходим к одной из «неразрешенных загадок истории». Столько разных людей, публицистов, политических деятелей, историков, людей серьезных и далеко не всегда заинтересованных, верило в убийство генерала Пишегрю, что психологически довольно трудно просто отмахнуться от этой версии. Главным, если не единственным, доводом в ее пользу является то обстоятельство, что покончить с собой указанным выше способом почти невозможно. Паралич воли и сознания, казалось бы, должен был в известный момент положить конец процессу самоудушения, — рука Пишегрю не могла вертеть рычаг до наступления смерти. Это, бесспорно, очень серьезный довод. Но он, собственно, бьет — правда, с разной силой — по обеим версиям: если Пишегрю был задушен, то почему же столь хладнокровные, заранее тщательно все обдумавшие убийцы решили симулировать самый неправдоподобный из всех способов самоубийства?
Очень многое говорит решительно против предположения об убийстве. Такого атлета, как Пишегрю, очевидно, нельзя было удавить без отчаянной борьбы, без сильного шума. Если бы генерала хотели убить, то его, наверное, перевели бы в менее людное место, чем Тампль: по соседству с Пишегрю жили другие заключенные, — камера Кадудаля была расположена от него в двух шагах. Затем в дело по необходимости должно было быть посвящено много людей, — правительство не могло рисковать оглаской такого злодеяния. Самым же сильным доводом надо признать совершенное отсутствие сколько-нибудь понятных целей убийства, — каких «разоблачений на суде» мог бояться первый консул? Разоблачения могли быть сделаны Пишегрю и на допросах; могли быть они сделаны и на суде другими заговорщиками. Сам Наполеон впоследствии на острове св. Елены подчеркивал именно этот довод.
Добавлю еще следующее. На камине в камере Пишегрю лежала корешком вверх книга Сенеки. Она была раскрыта на той странице, в которой древний мудрец говорит, что Божество умышленно, «для красоты зрелища», заставляет великих людей бороться с тяжелой судьбою. При этом Сенека описывает, как вслед за победой Юлия Цезаря, вслед за гибелью дела свободы покончил с собой, надев траур по родине, «последний римлянин» Катон Утический. Таинственная химия слова, сказавшаяся в этих удивительных фразах на самом благородном из языков, вероятно, в мрачной башне Тампля хватала за душу сильнее, чем в обычной обстановке: «Нет, ничего прекраснее не видел на земле Юпитер, чем Катон, не согнувшийся и не побежденный на развалинах республики. «Пусть, — сказал он, — пусть все уходит под власть деспота, пусть владычествуют на земле легионы Цезаря, а на водах его корабли, пусть к дверям моим приближаются его солдаты, — я найду для себя верный путь к освобождению. Меч Катона не мог дать свободу родине, но он даст свободу Катону...»
В настоящее время большинство историков, склоняясь к официальной версии наполеоновского правительства{21}, признают, что Пишегрю удавился от стыда, от угрызений совести, дабы избежать суда, грозившего ему позором. По всей вероятности, он и в самом деле покончил с собою, обнаружив в последние мгновения нечеловеческую силу воли. Но приводимые историками мотивы его самоубийства вызывают очень серьезные сомнения. Если Пишегрю решил удавиться от стыда, то книга Сенеки, история кончины Катона Утического, была довольно неподходящим для него чтением. Что с того, что мечом послужила для него деревяшка? Пишегрю, конечно, видел в своей судьбе сходство с судьбой Катона: «Не мог дать свободу родине, но он даст свободу Катону». Новый Цезарь шел к окровавленному престолу, — в нем Пишегрю мог признавать только счастливого соперника: их цели были приблизительно равноценны. Людей свиты он достаточно хорошо знал — они, во всяком случае, были ничем его не лучше. Перед кем должен был чувствовать стыд Пишегрю? Кто были судьи? Его допрашивал Тюрио, один из самых низких людей революционной эпохи. Он был сторонником Робеспьера и своевременно его предал, переметнувшись на сторону термидорианцев. Десятью годами раньше он в качестве председателя Конвента произносил страстные речи о свободе, равенстве и братстве, а теперь, на ролях следователя при правительстве «тирана», подвергал пыткам людей, не желавших выдавать сообщников. В том же роде были и другие, — все эти Савари, Демаре, Дюбуа, Реали, стоявший за ними в отдалении Фуше, — моральная чернь, возводившая на престол Бонапарта после тысячи клятв в вечной верности республике...
Правда, Пишегрю был «изменником». Он поднял оружие против родины. То же самое, однако, сделала вся французская эмиграция, которую теперь привлекал в свой лагерь новый Цезарь. То же самое позднее сделали Бернадоты, Мармоны, Фуше, Талейраны, принцы, герцоги, короли, так и умершие герцогами и королями. В бурные периоды истории подходить к людям с обвинением в измене надо очень осмотрительно. Формальная сторона дела не всегда имеет решающее значение. Что сказали бы мы об историке, который, например, подошел бы к деятелям Февральской революции с точки зрения 102-й статьи? Это, конечно, другая область, но и по вопросу об измене мы видели много удивительных метаморфоз в наши дни. Если бы сэр Роджер Кэзмент не был повешен за измену в 1916 году, он, вероятно, был бы теперь главой ирландского государства. Русский подданный Пилсудский назывался изменником в союзной печати 1914 года, когда он принял участие в войне на стороне австро-германской армии. Пятью годами позднее официальный представитель союзников горячо приветствовал маршала Пилсудского, дивизии которого «покрыли себя славой, завоевали Галицию и боролись с врагом на берегах Березины и Двины». Можно было бы привести и другие примеры. Но роль «обстоятельств места и времени» и особенно обстоятельства успеха в оценке всех таких дел, собственно, не нуждается в доказательствах. Генерал Пишегрю был человек умный, беззастенчивый и смелый, — «сильная душа», — назвал его на острове св. Елены Наполеон. Едва ли он покончил с собой от стыда и угрызений совести. Думаю, что причину его самоубийства следует искать в непреодолимом отвращении от жизни, — Пишегрю всего насмотрелся сверх меры. В этом только смысле он и мог повторить вслед за Катоном: «Исполни же ныне то, что давно было задумано тобою: уйди от человеческих дел...»
Его похоронили вечером в общей яме, около Ботанического сада. Два пристава уголовного суда и муниципальный чиновник составляли «кортеж», — больше никого не было. Шли подготовления к пышной коронации Наполеона. Казенные люди обильно покрывали грязью изменника, который покушался на жизнь великого человека.
Прошло двадцать пять лет. С пышными церемониями, с большой торжественностью открывался памятник Пишегрю. На престоле были Бурбоны. Казенные люди поливали грязью корсиканского злодея за то, что он по злобе и зависти удавил в тюрьме доблестного французского полководца... Потом Наполеон снова стал кумиром, и памятник Пишегрю был разбит вдребезги. Потом — потом миновал тот недолгий срок времени, в течение которого еще вызывает страсти жизнь ушедших политических деятелей. Никому больше не было дела до Пишегрю.