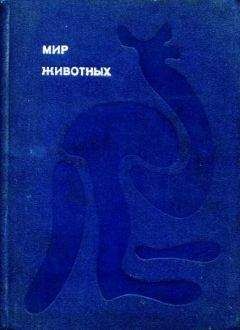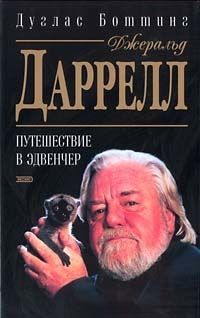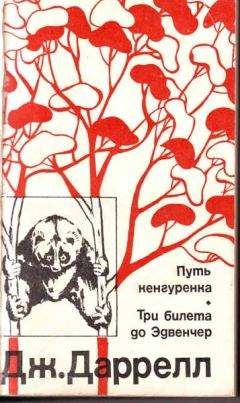Мать, как обычно, выскользнула из тростников, с балетной легкостью выбежала на листья лилий и позвала своих детей. Они зашлепали следом за ней, словно набор диковинных заводных игрушек, и столпились на листе лилии, терпеливо ожидая дальнейших приказаний. Мать неторопливо повела их по озеру, подкармливая по дороге. Она останавливалась на одном листе, брала клювом соседний, тянула его и дергала до тех пор, пока не переворачивала нижней стороной вверх. Там обычно оказывалось целое сборище червячков и пиявок, улиток и мельчайших рачков. Детвора налетала на лист, наперебой склевывала всю эту мелочь, очищала лист и переходила к следующему.
Я почти с самого начала понял, что мамаша ведет свой выводок прямехонько к тому месту, где затаился кайман, и с ужасом вспомнил, что это было ее любимое кормовое угодье. Я видел, как она, стоя на листе лилии, извлекала спутанные комки нежного папоротникообразного растеньица и раскладывала их на подходящем цветке лилии, чтобы малышам было удобнее выклевывать оттуда массу микроскопических съедобных существ. Я был уверен, что якана, до сих пор успешно избегавшая каймана, и на этот раз заметит его вовремя, но, хотя она все время останавливалась и осматривалась, вся семья продолжала двигаться прямиком к каймановой засаде.
Честно признаться, я растерялся. У меня было твердое намерение помешать кайману слопать мать или маленьких якан, но я не знал, что предпринять. Взрослая птица привыкла к шуму, производимому людьми, и совершенно перестала обращать на нас внимание, поэтому, например, хлопать в ладоши было бесполезно. Добраться до нее не было никакой возможности - все происходило на противоположной стороне озера, и пока я успел бы добежать туда по берегу, все было бы кончено - птица оказалась бы уже в двадцати футах от пресмыкающегося, не больше. Кричать бессмысленно, камнем не докинешь далеко, и мне оставалось только сидеть на месте, не отрывая бинокля от глаз, и клясться страшными клятвами, что, если кайман тронет хоть перышко моих драгоценных якан, я выслежу его и прикончу. Как вдруг я вспомнил про ружье.
Конечно, стрелять в каймана я не собирался: дробь долетит до него слишком разбросанно, и в него угодит всего несколько дробинок на излете, а вот якан, которых я так жаждал спасти, я мог запросто перебить. Однако, насколько я знал, якана никогда не слышала выстрелов, так что, если я выстрелю в воздух, она вернее всего испугается и уведет свой выводок в укрытие. Я бросился в хижину, схватил ружье и потерял еще драгоценную минуту или две, лихорадочно вспоминая, куда я сунул патроны. Наконец я зарядил ружье и выскочил из хижины. Зажав под мышкой ружье с направленными в землю стволами, я другой рукой поднес бинокль к глазам, чтобы посмотреть, не опоздал ли я.
Якана уже стояла на краю зарослей лилий, совсем близко от кучи водорослей. Малыши сгрудились на листе позади и немного в стороне от нее. Я вижу, как она наклоняется, хватает длинную плеть водоросли, выволакивает ее на листья лилии... и тут кайман, до которого оставалось всего четыре фута, внезапно выныривает из-под своего зеленого укрытия и, как был, в дурацкой нашлепке из цветов, бросается вперед. В ту же секунду я выпалил из обоих стволов, и грохот раскатился по всему озеру.
Не знаю, что спасло якану - я или ее собственная молниеносная реакция, но она свечой взмыла в воздух с листа в тот самый момент, когда зубы каймана, сомкнувшись, разрезали лист почти надвое. Она пронеслась над головой каймана, он, высунувшись из воды, попытался ее схватить (я слышал, как щелкнули зубы) - и вот моя якана, совершенно невредимая, с громким криком улетает прочь.
Кайман напал так внезапно, что птица не успела дать команду своим птенцам, кучкой рассевшимся на листе лилии. Теперь, услышав ее отчаянный крик, они ожили, как от удара тока, и попрыгали в воду, а кайман устремился к ним. Пока он подоспел, они уже нырнули, и он тоже ушел под воду. Постепенно волны разошлись, и водная гладь успокоилась. Я с тревогой следил за матерью-яканой - она с громкими криками кружила, все кружила над озером. Внезапно она скрылась в зарослях тростника, и больше в этот день я ее не видел. Кстати, и кайман тоже не попадался мне на глаза. Меня преследовала ужасная мысль - что он догнал и переловил все крохотные комочки пестрого пуха там, в темной глубине, где они отчаянно удирали от него, - и весь вечер я вынашивал планы мести. На следующее утро я пошел по берегу к тростниковой заросли и - вот радость! - увидел якану с тремя довольно унылыми и напуганными птенцами. Я стал высматривать четвертого, но его нигде не было и понял, что кайман хотя бы отчасти своего добился. Особенно меня огорчило то, что якана, нисколько не устрашенная событиями вчерашнего дня, снова повела свой выводок по листьям лилий, и я следил за ними весь день сам не свой от страха. Кайман не подавал признаков жизни, и все же я так намучился за несколько часов, что к вечеру решил - пора кончать! Больше не выдержу. Я пошел в деревню и одолжил маленькую лодку - двое индейцев любезно перенесли ее на мое озеро. Как только стемнело, я взял мощный фонарь, вооружился длинным шестом со скользящей петлей на конце и отправился на поиски каймана. Хотя озерцо было маленькое, обнаружить противника мне удалось только через час - он лежал на виду, неподалеку от зарослей лилий. Когда луч фонаря нашарил каймана, его большие глаза вспыхнули рубиновым светом. С неимоверной осторожностью я подгонял лодку все ближе и ближе, пока не удалось незаметно опустить петлю и понемногу завести ее на шею каймана; он лежал совершенно неподвижно, то ли ослепленный, то ли завороженный ярким светом. Потом я резким рывком затянул петлю и втащил бьющееся, извивающееся тело в лодку, не обращая внимания на щелканье челюстей и яростные лающие звуки, вылетавшие из раздутого горла каймана. Я упрятал его в мешок, а на следующий день завез на пять миль в сторону по лабиринту проток и там выпустил. Он так и не нашел дорогу обратно, и я, пока жил в маленькой хижине у затопленной долины, мог сидеть и любоваться сколько душе угодно своим семейством "бегуний по лилиям", весело сновавшим по озерцу в поисках пищи, и сердце у меня уже не уходило в пятки, когда легкий ветерок, налетая, морщил рябью темную, как агат, воду озера.
Глава 2
О животных вообще
Сколько помню, меня всегда увлекало поведение животных, удивительное разнообразие их привычек и инстинктов. В этой части пойдет речь о поразительных уловках, какими они привлекают себе пару, о диковинных методах защиты и способах постройки гнезд.
Даже самое уродливое и страшное животное - как и уродливый, страшный человек - не бывает совсем лишено каких-то пусть самых маленьких привлекательных черт. Бывает, вас совершенно обезоруживает встреча с абсолютно неинтересным или даже отталкивающим животным, и вдруг оно завоевывает ваше сердце трогательным, милым поступком. Это может быть уховертка, прикрывающая своим телом, как наседка, гнездо с яичками и заботливо снова собирающая их в кучку, если у вас хватило жестокости разорить гнездо; паук, который, играя на струне паутинки, заворожил свою прекрасную даму, а потом спеленал ее шелковистой нитью, чтобы она, опомнившись после спаривания, не слопала его; морская выдра, старательно привязывающая себя к морским водорослям, чтобы спокойно спать "на якоре", не опасаясь, что течение или отлив унесут ее далеко в море.
Помню, в Греции, еще совсем мальчишкой, я сидел на берегу маленького сонного ручейка. Вдруг из воды вылезло создание, похожее на гостя из космоса. Оно с трудом вползло на стебель тростника. У него были громадные выпуклые глаза, бугристое тело, паучьи лапки, а на спинке горбом выпирало какое-то странное, аккуратно свернутое приспособление, похожее на марсианский акваланг. Насекомое деловито карабкалось все выше, а солнце мало-помалу высушивало уродливое мокрое тельце. Затем страшилище замерло казалось, оно впало в транс. Я не мог отвести глаз от уродца - в то время мой жадный, всепоглощающий интерес к природе можно было сравнить только с моим невежеством, и я не понял, что это за тварь. Вдруг я увидел, что мой уродец, подсохший на солнце и побуревший, как орех, лопнул, и мне показалось, что через продольную трещину на спине пытается выбраться наружу что-то живое. Минуты шли, трещина расширялась, поддаваясь усилиям живого существа; внезапно оно сбросило уродливую оболочку и неуверенно выползло на стебель тростника. Тут я сообразил, что это стрекоза. Еще влажные и скомканные после столь странного рождения на свет крылья комочками липли к мягкому телу, но прямо у меня на глазах под теплыми лучами солнца они развернулись и отвердели, прозрачные, как снежинки, причудливые, как витражи в окнах собора. Тело тоже стало крепким, окрасилось в ослепительный небесно-голубой цвет. Стрекоза несколько раз затрепетала крыльями - они так и вспыхнули на солнце, а потом снялась и полетела еще не совсем уверенно, оставив позади уцепившуюся за стебель неприглядную оболочку, скрывавшую ее волшебную красоту.