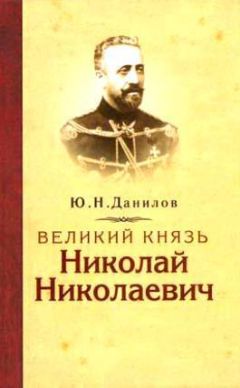— А чем же, бабушка, лучше было?
— Да в старые годы вот как было: идет сваха в невестин дом со своим сказом, придет — не садится и дальше матицы[8] полатей не заходит. Сгребется она руками за матицу и из рук ее не выпускает: сказывай ей либо да, либо нет. И отказы бывали. А ноне рады-рады, коли женишок на девку наклевался: бери ее вовсе, да поскорее, нам-де, с ней, по своей скудости, нечего делать...
— Что же дальше-то, хозяюшка?
— Ну, вот сговорили. Девку к венцу обряжать станут; придут девушки — отпевать начнут. Сидит невеста платком накрыта, и плачь она — не плачь, а слезы на глазах оказывай. Попоют девушки — кончат. Невеста встанет с места, низким поклоном свою благодарность отдаст. А песни поют такие печальные, что и со стороны жалость берет, слеза пробивается, вчуже сплачешь — такие жалости попадаются. Верь ты мне!
— Ноне, батюшка, — продолжала старуха с преглубоким вздохом: — ноне, родитель ты мой, у нас и поседок не сбирается, и на масленице с горок не катаются. Все кинули, все бросили. Ии-хи-хи, тошнехонько!
— Все ведь это, кормилец ты мой, от нужды от великия. Вон, сказывают, вниз-то туды, по Мезени по реке, кое-где, слышь, правят все же это. А у нас ты и песни никакой, не услышишь, какая она такая есть... Тяжелые времена пали на нашу сторонушку задвённую: это перед твоей милостью, как перед Богом!
Все-таки последние слова старухи были справедливы в одном, хотя и подлежали еще большому сомнению приводимые ею причины. В этом случае выручил меня, как и во всех других, толковый старожил, человек грамотный, бывалый, зажиточный, прочитавший на своем веку много книг и не духовного содержания. Таких посылала мне, впрочем, судьба почти в каждом большом селении
На этот раз случай выпал такого рода. Был какой-то праздник, кажется воскресенье. На углу церковной площадки подле кабака, стояла куча праздного и праздничного народа. Лица у всех были такие плотные, здоровые: попадались решительные красавцы с правильно обрисованными профилями, с крепким румянцем, с густыми пушистыми бородами. Все одетые чучелами в свои некрасивые, неуклюжие совики и малицы. Последние покрыты были, по обыкновению, прихотливо-пестрыми ситцевыми рубашками. Толпе этой было, видимо, очень весело: проедет ли самоед на оленях — они осмеют его, обругают; пробежит ли собака, по обыкновению большая, желтая, хохлатая — они и на ее счет пустят свой смех и замечания. Никого и ничто не пропускали эти мезенцы без того, чтобы не поглумиться своими доморощенными остротами, не посмеяться своим веселым, простосердечным смехом.
— Весело же вам живется, Гаврило Васильич, — заметил я моему гостю, явившемуся ко мне по приглашению.
— Это вы насчет чего же изволите говорить?
Гаврило Васильич долго живал в Архангельске на купеческих конторах и сам хвалился умением говорить со всяким: кого хочешь присылай.
— Да вот, видишь, как распоясались земляки-то твои, что стоят у питейного дома. Выпили, что ли?
— На что им выпить-то? На выпивку в нашем городу найдешь ли и пять человек имущих. Эти не выпили: они так смеются.
— Так, стало быть, живется вам весело?
— И этим не похвастаемся. Спросите хоть их же самих: многого хорошего не скажут. Гляди, другой и щи-то лаптями хлебает. А смеются они оттого, что глупый народ, дураки.
Гаврило Васильич как-будто сердится.
— Нашему народу, — продолжал он, — плеть надо, да хорошую, чтобы горохом вскакивал. Наш народ (я буду говорить вам сущую правду) — лентяй, такой лентяй, что вот если заработал на год одним промыслом, за другим не потянет руки и с места не подымется. А вот встанет на перепутье-то, да и начнет гоготать: ведь это дело легче, споркое это дело, особенно с голодухи! И добро бы, ребята малые, али молодые, а то ведь у иного борода в лопату и вся седая — и он туда же. Вот и вспомнишь пословицу: борода-то, мол, выросла, а ума с накопыльник[9] не вынесла. К нашему народу пословица эта как лучше нельзя подходит, и вот почему. Приходили к нам английские корабли, пугали, на промысла не выпускали из дому; ушли — мы два года прожили, с голоду не померли, на то время и к печи-то своей попригляделись, полюбили ее, что мать родную. Стало замиренье, думаем, коли в два года черт не съел — и этот третий как-нибудь проваландаем, не лыком же шиты. Сдумали мы это дело великое, да и на Мурман не пошли, и советом положили вовеки не ходить туда: далеко будто бы. Да уж очень много рыбы туда приходит, всю не выловишь. Пущай там кемские поморы свое дело правят, пущай их. Когда-когда мы и на промысла-то ближние за зверем морским соберемся — нам ведь и это в труд большой, хоть добрым уловом сутки в трои заручаемся на целый год. Об этом мы не рассуждаем. Позови ты нашего мезенца в покрут — ни за что не пойдет, оттого и крутим больше снизу, речных. А отчего наш нейдет? Оттого нейдет, что у него не столько наготы, сколько гордости всякой да чванства: я-де и сам с усам. А того не знает словно, что держи, по пословице, голову уклонну, а сердце покорно. Вот потому у других нужда такая, что собаки ложки моют, спят на кулаке, а ихние ты щи хоть кнутом хлещи: пузыря не вскочит. Вот что! И не с сердцов все это говорю вам, или злобою какой пылаю. Я ведь и сам здешний, и сам в нужде живал, и сам достаток свой не с неба получил! А жаль народ, жаль брата своего, ближнего. Наш народ — здоровый народ, работной, из него можно выделать такое дело, что весь край наш ухнет да диву дастся.
— Какое же, Гаврила Васильич?
— Да всякое, какое хочешь: от нас первое судно и на Новую Землю шло; мы и пол-Мурмана обчищали; у нас и суда сами строили, в кемское Поморье не кланялись; у нас и лошади хорошие вырастали и на весь край славу пустили; у нас все свое — и хорошее свое — было. А теперь — ничем-ничего. Все пропало, все погибло от лености да от гордости — Матерь Божья!
Гаврило Васильич перекрестился три раза.
— Вы вот о морских промыслах слышать желаете, — поезжайте отсюда Сёмжу да в Долгую Щель: здесь вам ничего сказать не сумеют. Поезжайте, поезжайте! Там дело ведут по-старому. Там народ честный, народ там Богу работает. За одного тамошнего я вам всю нашу Мезень, со всеми мозгами отдам.
Я послушал Гаврила Васильича, нанял четверкуоленей, завернулся в теплые, хотя и тяжелые, совик и малицу и по пустынным снежным полянам, через пни и кочки, прямиком по рыхлому, глубокому снегу съездил на легоньких, но валких саночках сначала в Сёмжу, а потом за реку Мезень и за сосновые леса в село Долгощелье. В два с половиной часа промчали меня легкие на ходу олени через первое сорокаверстное пространство до Сёмжи, давши возможность увидеть, что это — деревушка дворов в пятнадцать, сбитых в кучу без особенного порядка, но ближе к широкому устью реки Мезени, уже с соленой водой и не замерзающему во всю зиму. На этот раз морская вода сполнялась (начался прилив) и ветер дул с моря, а потому все устье было наполнено льдом синим, весенним. Через 6 часов убылая вода унесла этот лед назад и снова оголила черную воду широкого устья. В деревушке деревянная церковь, но выкрытая тесом и покрашенная в зеленую краску. Она, по обыкновению всех поморских церквей, освящена также во имя святителя Николы, как бы в большее подкрепление народной поговорки, которая давно уже и справедливо гласит, что от Холмогор до Колы тридцать три Николы. Здесь же, между прочим, слышал я, что при крепких северных ветрах море нередко выгоняет воду из реки на берега, топит и уносит стога, подступая к деревушке под самые избные стены. Это обстоятельство оправдывается тем, что течение прилива и отлива здесь продолжается дольше, чем во всех других местах Белого моря (исключая только Св. Носа), а потому и возвышение прилива здесь наибольшее (до 20—22 футов). Причину этого явления легко объясняют сильным напором приливной волны от Севера и стеснением ее в горле моря.
Село Долгая Щель, расположенное на берегу реки Кулоя, в 51 версте от Мезени (прямиком через болота и труднопроезжие перелески на 4½ часа не слишком быстрой езды на оленях), оказалось селением более людным (83 дома), чаще и красивее застроенным двухэтажными избами, не разрушившимися, как в г. Мезени, к уезду которого принадлежит это село. В старину оно приписано было к Сийскому монастырю; теперь населено государственными крестьянами, которые, как видно на первых же порах, живут достаточно: для наезжего гостя нашлась у них и рыба всякая, и чай, и сахар, и купленные в Архангельске лакомства, вроде кедровых орешков, пшеничных баранок и окаменелых пшеничных же пряников. Щеляне сеют ячмень (хотя и весьма незначительное число), ловят рыбу и в Кулое, и Сойне, которая издавна дарована здешним крестьянам и соенским бобылям. Последние, выселившись из Долгощелья, образовали новое селение Со́ену. Рыба, вылавливаемая в этих реках, и общая всему Мезенскому и дальнему Канинскому берегу нельма не попадается уже нигде на других беломорских прибрежьях. В Печорском краю она тоже не редкость и везде составляет лакомую, вкусную и здоровую пищу; мясо ее нежное, и посоленое так же приятно, как и свежее. Заходя с моря в реки, она вылавливается здесь в семужьи невода и весит иногда до пуда. Эта рыба лучшая из всех так называемых белорыбиц и достоинством далеко превосходит, например, волжскую или уральскую белорыбицу, хотя и у ней такое же белое мясо.