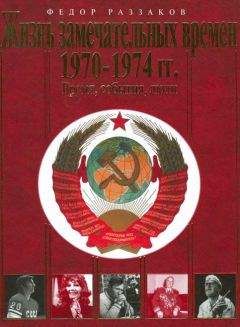Била ключом жизнь и на эстрадных подмостках Москвы. С 5 января в конференц-зале ВДНХ своим искусством развлекал зрителей молодой вокально-инструментальный ансамбль под управлением Игоря Гранова «Голубые гитары», а 6 — 15 января в Государственном театре эстрады (ГТЭ) выступал патриарх жанра ВИА ансамбль из Грузии «Орэра». 9—10 января в кинотеатре «Октябрь» на эстраде царила Гелена Великанова с новой программой.
В субботу 17 января в Москве случился большой скандал, о котором в течение нескольких дней судачили москвичи. А произошло вот что. В Центральном универсальном магазине (ЦУМе) двое итальянских туристов, студентов из Рима, Тереза Маринуцци и Валентино Такки, с лестничной площадки третьего этажа разбросали несколько сот листовок в защиту видных диссидентов Ильи Габая и Петра Григоренко. Разбрасывали они их в течение нескольких минут, после чего были задержаны нарядом милиции, вызванным администрацией магазина, и препровождены в отделение. Однако сутки спустя скандал повторился: на этот раз местом действия стал Театр оперетты, расположенный неподалеку от ЦУМа. На этот раз в роли прокламатора выступил бельгиец Виктор ван Брантегем. Как это ни странно, но большинство москвичей, оказавшихся в эпицентре этих событий, реагировали на происходящее на удивление спокойно. Никто не бросался на прокламаторов с кулаками и взирал на них скорее с недоумением, чем с презрением. Хотя были, видимо, и такие, о ком журналист Ю. Михайлов писал в газете «Вечерняя Москва» следующее: «И надо было видеть, как в том же ЦУМе и Театре оперетты люди с возмущением рвали гнусные пасквили, топтали листовки ногами».
Как выяснилось позднее, заказчиком этой акции в Москве был президент фламандского католического союза студентов Роджер Де-Бие, которого два года назад выдворили из СССР за попытку нелегального провоза через советскую границу материалов НТС. Поскольку ему самому дорога в Союз была заказана, он подбил на «черное дело» своих сподвижников — студентов из Рима. Тем же за «провокацию» пришлось отвечать собственной свободой: самый гуманный суд на свете влепил им по году тюремного заключения.
В те же дни продолжал «париться» на нарах и Юрий Айзеншпис. В двадцатых числах января его перевели из Бутырки во внутреннюю тюрьму КГБ в Лефортово. По его словам, выглядело это следующим образом: «В Лефортове меня сперва обыскали, потом пригласили врача. Он меня осмотрел, у меня никаких жалоб. Потом отвели в баню, дали белье и привели в камеру. Я сидел, наверное, суток 13 или 15 один. Там раз в неделю или через день делает обход администрация. В один из таких обходов заходит ко мне в камеру начальник следственного изолятора, как сейчас помню, полковник Петренко. Седой высокий мужчина. Единственное, что сказал: «Расплодил вас Рокотов», — и захлопнул дверь. Я спросил: «Долго ли я буду сидеть один?» Он ответил: «Разберемся. Когда нужно будет — переведем в другую камеру». Но меня никуда не перевели. У меня была 88-я, «расстрельная» статья — слитки золота и валютные операции…»
Состоявшийся вскоре суд осудил Айзеншписа на 10 лет лагерей, и он отправился отсиживать свой срок в Красноярск. Но это будет чуть позже, а пока вернемся в январь.
В середине месяца из переделкинского санатория для сердечников выписали писателя Виктора Драгунского. Однако на другой день после приезда из санатория обнаружилась новая беда: у писателя на месте укола, который ему сделали перед отъездом из санатория, образовалась большая твердая опухоль. Тут же был вызван хирург из поликлиники, который назначил больному согревающие компрессы. Однако уже на следующий день у Драгунского поднялась температура, его стал бить сильный озноб. Доктор Голланд, который до этого наблюдал писателя, вынес вердикт: необходимо срочно вскрыть абсцесс, так как это очень опасно в послеинсультном состоянии. Голланд лично договорился с опытным хирургом из института Вишневского, что он прооперирует Драгунского. Однако, для того чтобы попасть в элитный институт, было необходимо заручиться письмом из Союза писателей СССР, в рядах которого состоял Драгунский. Эта миссия выпала на долю жены писателя. Она с этим делом справилась, хотя ей и пришлось пройти через массу бюрократических проволочек. Но на этом ее одиссея не закончилась.
С письмом-ходатайством она отправилась в институт Вишневского. Но там ей сказали, что ее мужа возможно положить туда только при личном согласии самого академика Александра Вишневского. Мол, идите к нему на прием, и если он разрешит… Далее послушаем рассказ самой Аллы Драгунской:
«В приемной тьма народа. Я понимаю, что мне откажут, так как таких «пустяков» у них не делают. Сажусь и жду. Волнуюсь ужасно. Через полтора часа меня зовут к Вишневскому.
Это был человек небольшого роста, широкоплечий, что-то татарское было в его лице. Одет он был в генеральский мундир, почему-то расстегнутый на груди. Всему миру было известно, что он блестящий хирург, но мало кто знал, что у него плохое зрение.
Я представилась, отдала письмо. Он приблизил свое лицо к моему и стал меня беззастенчиво рассматривать. Потом отошел на шаг и сказал:
— А ты ничего… Так что у тебя? Рассказывай!
В двух словах я выложила суть дела, умоляя его прооперировать Виктора в их клинике. И вдруг странный вопрос:
— А как ты считаешь, твой муж хороший писатель?
— Очень.
Он рассмеялся и сказал:
— Ну, ты прямо как Мэри Хемингуэй. Помню, были мы с женой у него в гостях на Кубе, так эта Мэри тоже сказала, что ее муж лучший писатель в мире…
И Вишневский начал свой монолог, который длился не менее часа. Рассказал, как однажды поехал в Латинскую Америку на симпозиум и увидел у нашего посла жену, бывшую певицу оперного театра. Какая она была красивая, и вообще замечательная, и спортсменка, и как в одно мгновение скончалась на теннисном — корте…
Он говорил, говорил, а я разглядывала его необычный кабинет, похожий на зал, уставленный какими-то экзотическими предметами. Тут были и скульптуры, и маски, и экзотические растения, и картины. Стоял белый рояль, а на нем клетка с попугаем. Оказалось, основная часть вещей — это подарки со всего света. Благодарность светилу за операции. К нему же едут со всего света.
Потом Вишневский сказал:
— Завтра привози своего! Все сделаем. Отдадим в лучшие руки. Ну, пока!
Я протянула руку, благодарила…»
Вишневский не обманул — действительно отдал Драгунского в лучшие руки, то бишь в руки своего сына Александра, которого за глаза в институте называли «Александром Третьим». Операция прошла успешно. Жене писателя потом сообщили, что дело было неважнецкое — если бы еще немного продержали больного дома, то ему грозило заражение крови. После этого Алла прошла в палату, где лежал ее муж. По ее же словам, он был бледный, какой-то жалкий. Таким она его никогда не видела. Когда увидел жену, внезапно заплакал, она тоже не смогла сдержать слез.
Продолжают сгущаться тучи над головой Александра Твардовского. После 23 января он дважды встречался с секретарем С.П. Вороковым, и разговор шел все о том же — о публикации за рубежом поэмы Твардовского «По праву памяти». Воронков требовал, чтобы Твардовский сделал резкое заявление по этому поводу: мол, осуждаю, не согласен и т. д. Твардовский спросил: «Заявление будет опубликовано у нас?» — «Да», — ответил Воронков. На что Твардовский резонно заметил: «Но если заявление без публикации поэмы будет у нас, то это смешно». — «Нет, это не смешно, — продолжал упорствовать Воронков. — Если это дело дойдет до Секретариата ЦК, скандал будет сильный. Будет докладывать не Шауро (В. Шауро — заведующий отделом культуры ЦК КПСС. — Ф. Р.), а сам Суслов (М. Суслов — член Политбюро, главный партийный идеолог. — Ф. Р.). Он встанет и скажет: «За границей опубликована поэма Твардовского. Твардовский же вместо того, чтобы дать оценку этому политическому факту, упрямится и настаивает на публикации этой поэмы в Советском Союзе. Я думаю, что надо указать товарищу Твардовскому», — и… все будет обсуждено за полторы минуты».
Твардовский понимал, что Воронков во многом прав, что жаловаться некуда. Однако уже через несколько дней — в конце января — он все же принял решение написать письмо самому Брежневу. 29 января А. Кондратович записал в своем дневнике:
«А. Т. пришел ко мне со словами: «Знаете, что я вам скажу. Помирать, так с музыкой, так, чтобы все зазвенело. Я решил, что буду писать на самый верх. И я уже набросал письмо, и мне удалось все самые спорные положения сформулировать. При этом я не играю в молчанку и говорю все, что думаю, — и о поэме, и о ее содержании, и о том, что с ней происходит. Я даже о Солженицыне говорю, о том, что его исключение было грубой ошибкой (Солженицына исключили из Союза писателей в 1969 году. — Ф. Р.). Я не поддерживаю его последнего отчаянного письма, но исключение его > было ошибкой и привело лишь к тому, что у нас прерваны все связи с передовой художественной интеллигенцией Запаса, нас там теперь бойкотируют. Я все написал, что думаю. Пусть будет грохот». (Потом, повторяя это у себя в кабинете, он сказал: «Это будет последнее письмо», сказал твердо, и, как у него бывает в моменты сильного напряжения, глаза его побелели и несколько выкатились, уставившись на собеседника, а рука с растопыренными пальцами замерла в воздухе.)…»