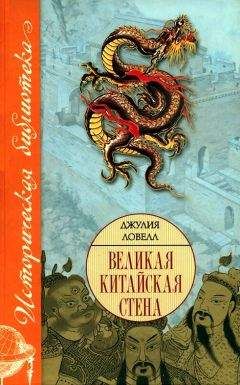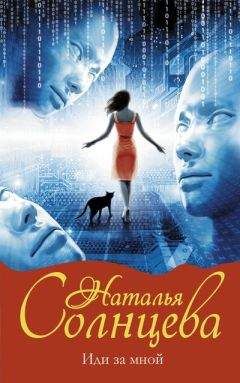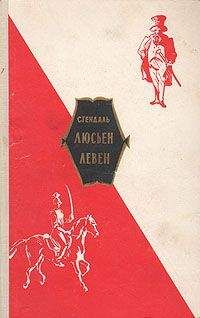В сердце Вольтера Англия заняла место сильного соперника Китаю. В 1725 году он бежал через Ла-Манш, скрываясь от ссоры с неким грубым французским аристократом и надеясь найти приют свободы и разума, населенный читателями Локка и Ньютона. Реальность его неизбежно разочаровала, однако не настолько, чтобы затмить хвалы добродетели свободомыслия этой страны в его дневнике путешествий с элементами размышлений, «Письмах относительно английского государства». Однако между двумя иностранными государствами — пассиями Вольтера особой любви не наблюдалось.
С тех пор как португальцы впервые добрались до южного Китая в начале шестнадцатого столетия, получив в конце концов для себя Макао, несколько европейских морских держав, включая Англию, неизменно стремились заполучить такую же ступеньку для торговли на окраине Серединного Царства. Многие учились на прежних ошибках португальцев, особенно голландцы, которые, начиная со своей первой торговой миссии в 1655 году, склонялись перед стариной — или, скорее, в реальности перед будущим, — чтобы усладить китайцев исполнением всех элементов китайского даннического этикета, особенно коутоу. Однако представители Англии не были готовы к такому откровенному прагматизму. Самые ранние крупные английские торговые экспедиции в Китай совпали с усилением национального самомнения и агрессивной самоуверенной нетерпеливости, которые станут приводами завоеваний Британской империи, с прогрессом в технике и вооружениях и с готовностью использовать их в целях колониальной экспансии. В отличие от философов Просвещения британские военные и торговцы не тратили время на рассуждения о достоинствах китайской системы управления. Они хотели отношения и уступок, причитавшихся им как здоровым членам глобальной системы дипломатии и торговли, которую они строили под себя. Когда англичане столкнулись в Китае с еще более старым и зашоренным взглядом на международную дипломатию, отношения начали портиться.
Тон враждебному отношению Британской империи к Китаю был задан в 1748 году в отчете о бесплодном пребывании в Китае, составленном командором Джорджем Энсоном, который в 1743 году привел свой потрепанный парусник в Кантон и попросил помощи в ремонте и снабжении. Вместо того он провел два бесполезных душных месяца при полном игнорировании со стороны китайского губернатора, который, как сообщили Энсону его заместители, был слишком занят и слишком страдал от жары, чтобы принять его. В отчете о случившемся Энсон заменил уравновешенный, идеализирующий интеллектуальный туризм французского Просвещения высокомерным нетерпением британского шовинистического империализма. Энсон питал к Китаю искреннее отвращение — к его «грубой и безыскусной» письменности, «второсортным» техническим возможностям, «скудости талантами». Высказываясь о слабости его оборонительных сооружений, он с надеждой отмечал: «Трусость жителей и отсутствие настоящих военных уставов» обрекают Китай «не только на покушения со стороны любого сильного государства, но и на разграбление со стороны всякого мелкого агрессора».
Энсон, вероятно, брал такого рода уроки у Даниеля Дефо, слывшего барометром британских мнений о Китае в XVIII веке. Оказавшись к тридцати годам банкротом, Дефо в середине жизни попал в опасную зависимость от способности привлекать читателей из среднего класса к своим полемическим статьям, памфлетам и беллетристике. В «Новых путешествиях Робинзона Крузо», своевременно выскочивших из печатных станков в 1719 году, всего четыре месяца после феноменально успешного «Робинзона Крузо», Дефо изобразил схематичную картину кипучего, напитанного порохом британского империализма. После того как Крузо вторично отправляется путешествовать, он вынужден по стечению обстоятельств оказаться на южном побережье Китая. С побережья он совершает длительное путешествие в глубь материка, на север до Наньцзина, а затем до Пекина, впечатления от которого изложены так, чтобы вылить максимальное количество презрения на принимающую страну и чтобы максимально отразить славу Европы и в особенности Англии. В конечном итоге Крузо добрался до «Великой китайской стены» к северу от Пекина, где он «стоял неподвижно целый час и смотрел на нее в обе стороны, вблизи от себя и вдаль». Он обнаружил — ему в ней мало что по нраву, начиная с отчетливо двусмысленного комплимента ее строителям и инженерам: «Очень большое сооружение, проходящее по холмам и горам по бесполезной линии, где скалы непроходимы, а пропасти таковы, что никакой враг их никогда не преодолеет». Отвечая на вопрос о его мнении, заданный докучливым проводником, «превозносившим стену как чудо света», Крузо лицемерно отвечает: «Отличная вещь, чтобы отпугивать татар». Шутка, которую его тупой собеседник, естественно, не понял. После всей сдержанности Крузо больше не в силах контролировать себя:
«Что ж, говорю я, сеньор, вы думаете, что это удержало бы армию моих соотечественников с хорошим запасом артиллерии или наших инженеров с двумя ротами саперов? Что они не разбили бы ее за десять дней, чтобы армия могла вступить в бой, или не взорвали бы — фундамент и все остальное, — чтобы от нее не осталось и воспоминания?»
Крузо хочет удостовериться: мы поняли — последнее слово в разговоре с китайским провожатым об «этом могучем ничто, зовущемся стеной» осталось за нами: «Когда он осознал, что именно я сказал, то молчал всю оставшуюся дорогу и мы больше не слышали его прекрасных рассказов о мощи и величии Китая».
Застольные нападки Дефо на Китай и его стену — незрелая, шовинистическая вера и гордость за европейскую технику, пренебрежительное отношение к Китаю и его претензии на величие — могли сорваться с языка любого приверженца британской дипломатии канонерок девятнадцатого столетия. Во времена написания романа, общеизвестно, угрозы Крузо являлись скорее империалистическим хвастовством, чем реальностью. Далекие от того, чтобы держать в благоговейном страхе будущие колониальные народы, весь XVIII век обожавшие авантюры британцы частенько садились в унизительную лужу и попадали в плен в различных частях света, где им очень хотелось построить собственную империю: к берберским пиратам, алжирским рабовладельцам и императорам монголов. Но по мере того как век XVIII переходил в XIX, по мере того как промышленная революция и международная конкуренция за богатство, территории и власть набирали обороты и наращивали мускулы на костях алчной империалистической риторики, любимые темы Просвещения — наука, универсализм, прогресс в интересах человечества — выживали, едва узнаваемые в более нетерпимых, агрессивно воинственных одеждах. Подзуживаемые самодовольством в связи с великими скачками в развитии техники, подталкиваемые наружу, к новым силовым приобретениям соперничеством с соседними странами, европейские империалистические государства начинали верить: они и только они открыли путь к обновлению и прогрессу для всего современного мира. Вовсе не собираясь искать вдохновения в незападных моделях, они теперь приступили к распространению (силой, если потребуется) своей версии прогресса — неотъемлемое право свободной торговли, суверенитета национальных государств, подкрепленных триумфом западной науки — на те несчастные части мира, до сих пор остававшиеся непросвещенными. В глазах нахально самоуверенных британцев, посетивших Китай в XIX веке и позднее — интеллектуальных потомков Робинзона Крузо, — Великая стена стала двояким символом: бесспорно впечатляющий неизменный элемент в экскурсии по антропологическому музею, каковым являлось неторопливое путешествие по имперскому пространству, но еще и причуда, характерная для осыпающейся, отживающей мощи, и досадное напоминание о неизбежном упадке, уготованном для всех империй.
В июле 1861 года, когда солнце в Тяньцзине, портовом городе к югу от Пекина, пекло так нещадно, что страдавшие от жажды солдаты предпочитали брать свой портовый рацион в замороженном виде, Джордж Флеминг, военный врач и отважный викторианский путешественник, запросил и получил в местном британском консульстве паспорт для путешествия через Великую стену в Маньчжурию. За три года до этого такое разрешение было бы немыслимым, но, к счастью для Флеминга, в дело с тех пор вмешались двадцать шесть британских и французских канонерок, восемнадцать тысяч солдат и «опиумная война». В 1856 году, после того как достоинство Британии преднамеренно попрали китайцы, не уважившие государственный флаг, англо-французские войска окружили и взяли Кантон. В апреле 1858 года союзные силы бросили якоря канонерок у побережья близ Тяньцзиня, предприняли штурм китайских укреплений и потребовали переговоров. 26 июня цинское правительство подписало Тяньцзиньский договор, дававший британцам право иметь в Китае послов, консулов, миссионеров и разрешать своим подданным путешествовать, торговать, работать и нанимать на работы, где и как им угодно. Короче говоря, делать что вздумается на прежде закрытом и запертом пространстве цинского Китая. Громко и ясно в договоре потребовали от китайцев четыре миллиона серебряных талеров в качестве компенсации за трудности и траты, которые пришлось перенести британцам. Тихо и более расплывчато договор легализовал торговлю опиумом.