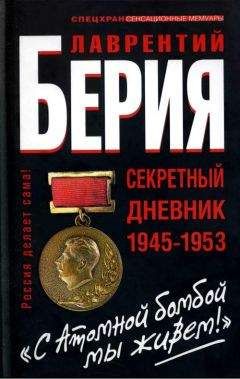Ознакомительная версия.
Летом сорок восьмого умирает наш дорогой и любимый товарищ Жданов. И была там такая врачиха, глупая баба, показалось ей, будто товарища Жданова лечили неправильно. У него, мол, инфаркт, а ему разрешают с постели вставать. Она написала письмо наверх, письмо попало к Абакумову и тот отнес его Сталину. Потом из-за этого письма было целое «дело врачей», но это другая история. А Абакумов начал нашептывать Сталину, мол, не иначе как убили товарища Жданова по приказу Кузнецова с Вознесенским, поскольку они после его смерти к нему в санаторий ездили. А ездили они туда почему? Потому, что все они родом из ленинградской парторганизации, дружны были со Ждановым еще с тридцатых годов, и когда он умер – как было с дорогим товарищем не попрощаться? Но Абакумов за это зацепился, внушил свои подозрения товарищу Сталину, наверняка не без помощи Берии, который на товарища Сталина уже тогда большое влияние имел. И начали они раскручивать это дело.
Для начала сняли товарищей этих со всех постов. Цеплялись к такой ерунде, ну просто совестно. Товарищ Родионов, Предсовмина РСФСР, провел в Ленинграде оптовую ярмарку – а почему не провести, нельзя, что ли? А ему говорят: нет, ты самовольно провел, иди вон со своего поста. Письмо пришло в ЦК анонимное, дескать, в Ленинграде голоса на партийных выборах неправильно подсчитали – такое везде может быть, но к этому прицепились, и Кузнецова долой с его поста. Товарищ Вознесенский в планировании напутал малость – все, вредитель, долой! Документ секретный в Госплане пропал – ага, шпионаж! Посмотрели, что товарищ Вознесенский из Ленинграда, товарищ Кузнецов из Ленинграда – ага, групповщина, отрыв от ЦК, ленинградская фракция. Ну а доказывать у нас на Лубянке умеют, там тебе что хочешь докажут, то, о чем и не думал никогда…
В общем, не буду долго рассказывать, больно мне все это вспоминать. Берия с Абакумовым слепили кучу таких вот обвинений и назвали всю эту мерзость «ленинградским делом». Двести человек партийного актива, и какого – молодые, энергичные ребята, им бы жить да работать! – двести человек к стенке, две тысячи по лагерям. Зато Берии дорога наверх теперь была свободная, расчищенная, а если кто случайно на нее вылезет, тот не знает, как убраться. Представляешь себе – люди специально хуже стали работать, чтобы товарищ Сталин их не заметил и не выдвинул, так они Берии боялись. А первым подручным у него был Абакумов. Так-то вот, Павлушка… А ведь смутил он тебя, Лаврентий, признавайся, смутил…
– Правда ваша, – покаянно вздохнул Павел. – Смутил. Язык у него привешен, логика железная. Вы мне объясняете, как дело было, а он начнет свое говорить и как-то так все переиначивает… – Павел сделал нетерпеливый жест рукой, – так переиначивает, не знаешь, кому и верить.
– А ты не верь, Павлушка, – глядя ему в глаза, спокойно и серьезно сказал Хрущев. – Верят пусть бабки в церкви, а ты думай. Ты ведь не мальчик, много всякого повидал, какой-никакой, а опыт у тебя есть. Ладно, дам я тебе пару бумажек секретных – на, посмотри, как они там дела фабриковали, как над людьми изгалялись. Ценны эти бумажки тем, что их сам же Берия подготовил потом, когда в МВД пришел – вот, мол, какой я честный. А дружка своего Абакумова подставил под трибунал. Тот ему, как пес, служил, такие письма из тюрьмы писал, аж слеза прошибает – не помогло…
…Берия не двинулся, не дрогнул, замер в каменной неподвижности, но Руденко все понял, усмехнулся про себя – наконец-то он нащупал верную дорогу. Далеко не всех можно было взять на любви к детям. А тут надо же – зверь умный, матерый, опытный – и так прокололся. Давай, Романе, мотай его дальше…
– Я вот размышляю над еще одним ордером, который я выписал сегодня, но пока не дал в работу – на арест вашей сожительницы. Знаете ли, жены не всегда бывают в курсе предательской деятельности мужей, а любовницы – почти всегда. Уверен, при обыске мы найдем у нее много интересного… Как вы думаете, найдем, а, гражданин Берия?
Лаврентий молчал. Вдруг мелькнула мысль, что это ему воздаяние за абакумовского сына – мелькнула и пропала, осталась лишь пустота, в которой откуда-то издалека звучал голос прокурора:
– …Девочку, конечно, жалко, говорят, она слабенькая, а тут тюремная камера, а потом детский дом где-нибудь в Сибири. Может не выдержать. А если выдержит, то судьба ее незавидная. А правда все же, будто грузины особенно привязаны к дочерям?
Берия медленно поднял голову. Лица прокурора он не видел – он ничего не видел, кроме красного тумана в глазах. Тысячелетия цивилизации слетели с него, как пух с одуванчика, в одно мгновение. Если бы не наручники, этот допрос стал бы последним в жизни Генерального прокурора СССР Романа Руденко. Но все же многолетняя самодисциплина еще удерживала от того, чтобы стать зверем – бессильным зверем на цепи. Если бы не было наручников, тогда совсем другое дело. Наручники… А это выход! Он напряг руки и потянул их на себя, перекрутил и потянул еще сильнее, пока боль в запястьях не стала нестерпимой, зато туман из красного превратился в обычный, серый, и он смог наконец выдохнуть густой тяжелый воздух. С трудом продираясь сквозь звон в ушах, Берия выпрямился и заговорил с презрительным высокомерием:
– Во-первых: я не грузин, а мингрел. Назвать меня грузином – все равно что тебя москалем. Если еще раз попробуешь, я придумаю тебе русское имя, понятно? Во-вторых: что ты, слизняк, понимаешь в мужчинах и в их пристрастиях? Если я хочу женщину, я ее беру. Можешь и с моей подруги получить заявление об изнасиловании. Это уже потом я ей понравился больше, чем она мне. Скажи, я разрешаю – если хочет, пусть пишет. А детей у меня много, куда больше, чем ты думаешь, и мальчиков, и девочек. Эти показания я, пожалуй, подпишу – они не принесут мне урона…
Руденко молчал. Берия был настолько страшен в эту минуту, что слова не шли на ум прокурору. Наконец, дернув щекой, выдавил:
– Только сегодняшними не отделаетесь. Протоколов у нас много накопилось.
– Хорошо. Все, что у вас накопилось, я тоже подпишу. В конце концов, какая разница – сделаю я это сам или подделает какой-нибудь капитан из моего ведомства. Результат-то все равно один и тот же…
Руденко наконец сообразил, что победа осталась за ним, и снова улыбнулся.
– Давно бы так. И вам было бы легче, и мне проще. А дочку, стало быть, все же любите…
– До определенного предела, – оборвал его Берия.
– То есть архив не сдадите?
– Нет. Безопасность государства я ценю выше, чем ее жизнь. Протоколы подпишу… кроме тех, которые связаны с убийствами.
– Почему?
– Там замешаны другие люди. Даже в таком дурацком вопросе никого оговаривать не стану.
– А они вот не постеснялись вас оговорить. Показать протоколы?
– Очную ставку! – потребовал Берия.
– Боюсь, это будет затруднительно.
– Тогда разговор окончен, – Берия откинулся на спинку стула и закрыл глаза.
Темная волна бешенства схлынула, уступив место апатии. По шагам он понял, что Руденко прошел к выходу. Хлопнула дверь. Минут через пять к нему подошел Цареградский, склонился, потряс за плечо:
– Гражданин Берия! Протоколы будем подписывать?
Он разлепил глаза, поднял голову и устало сказал:
– Снимите наручники. Не бойтесь, вас не трону…
Один из конвоиров наклонился, завозился с наручниками, с легким испугом воскликнул: «Товарищ прокурор!» Бледный Цареградский неподвижным взглядом смотрел на руки Берии: кожа на запястьях разорвана, кровь течет по пальцам на пол. Опомнился, тихо сказал: «Перевяжите!» и отошел к окну. Когда вызванный фельдшер закончил перевязку, прокурор положил на стол стопку протоколов и пенсне.
Берия просматривал бумаги быстро, «по диагонали». Два протокола он отложил в сторону, остальные подписал. Уже выходя в коридор, обернулся. Прокурор стоял у стола и смотрел вслед. Тогда он задержался на мгновение и вдруг сказал: «Спасибо!»
Уже во дворе один из конвоиров спросил:
– Послушайте, а за что вы прокурору «спасибо» сказали?
Берия повернулся, окинул взглядом коренастую фигуру полковника, упрямое круглое лицо и устало обронил:
– Тебе не понять…
Павел сидел за столом и в третий раз перечитывал документы, точнее, письма и жалобы осужденных. На каждом стояла пометка – по какому делу.
«Дело авиационной промышленности». Заявление осужденного Новикова.
«…На следствии все правдиво изложенные мною недочеты и ошибки в работе следователь Лихачев извратил и преподнес мне как преднамеренное злодеяние с моей стороны, имеющее целью нанести вред и ослабить мощь Советской армии… Все мои попытки в ходе следствия доказать абсурдность предъявленных мне обвинений пресекались следователем Лихачевым, который допрашивал меня чуть ли не круглосуточно, постоянно твердил, что следствие располагает изобличающими меня в преступных действиях показаниями Шахурина, Селезнева и др. и что я напрасно трачу время, пытаясь доказать свою невиновность, и этим только усугубляю свою вину. Находясь в состоянии тяжелой депрессии, доведенный до изнеможения непрерывными допросами, без сна и отдыха, я подписал составленный следователем Лихачевым протокол моего допроса с признанием моей вины во всем, в чем меня обвиняли…
Ознакомительная версия.