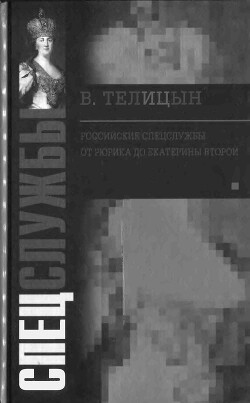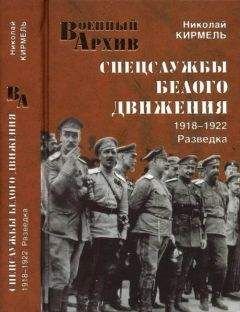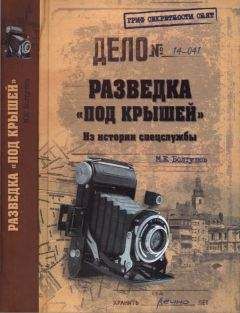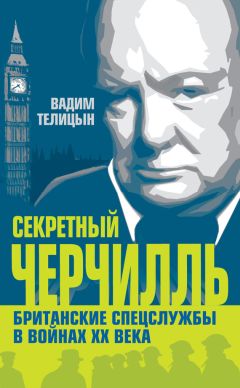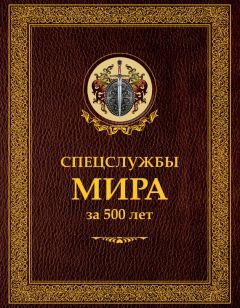В дневнике от 15 апреля 1789 года Храповицкий записал: «Назван умницей за то, что вместо ссылки на поселение по мнению Сената написал того 24-летнего преступника в матросы». Казалось бы, как хорошо, что у императрицы есть такой гуманный статс-секретарь, который смягчил наказание преступника. Между тем он тем самым самовольно изменил приговор Сената как высшего судебного органа империи, то есть нарушил закон. А уж о праве самодержавного монарха менять приговоры и законы много и говорить не приходится — закон ему не был писан вовсе. Именно эта внезаконная, в нарушение изданных самой же самодержавной властью законов возможность «мешаться» или «не мешаться» в любое дело и составляла суть самодержавия, его значение в решении дел политического сыска, в существовании такого юридически неопределенного, но фактически реального понятия, как «опала», которая дамокловым мечом висела над каждым подданным».
Представляется, что дело Пушкиных — Сукина — это частный случай. Таких дел по России было, видимо, огромное количество (и это дело не единственное, в которое вмешивалась сама российская императрица Екатерина Алексеевна, как, впрочем, до того и Елизавета Петровна, и Анна Иоанновна). Дело в другом, и это точно подметил исследователь. Спецслужбы, в первую очередь политический сыск, полностью находились в руках царствующих особ, которые управляли ими, как заблагорассудится: порой, в соответствии с законами, порой, исходя из собственных представлений о подозреваемых, о тяжести совершенных преступлений, о мерах наказания, о милостях и строгостях.
Анисимов подчеркивает в этой связи: «Во всех случаях расследования крупных политических дел заметно, что исходным толчком к их началу была ясно выраженная воля самодержца, который подчас исходил при этом не из реальной вины данного человека, а из собственных соображений, подозрений или капризов. Приведенный выше принцип властвования, выраженный Иваном Грозным в емких словах „Жаловать есь мы своих холопов вольны, а и казнить вольны же‘‘, виден и в не менее афористичном высказывании императрицы Анны Ивановны, знаменитой переписки Грозного и Курбского не читавшей, но мыслившей в 1734 году так же, как и ее дальний предшественник на троне: „А кого хочу я пожаловать, в том я вольна“. В этом же ряду стоит и высказывание Екатерины II, „мывшей голову“ одному из своих сановников: „Подобное положение, не доложась мне, не подобает делать, понеже о том, что мне угодно или неугодно, никто знать не может". Все вышесказанное нужно иметь в виду, когда читатель будет знакомиться с главами о расследовании политических преступлений, и особенно с главой о приговоре, жестокость или мягкость которого полностью зависела от воли государя» [376].
Но стоит напомнить, что у самодержца (даже учитывая, что вопросы безопасности, в том числе и личной, всегда оставались первоочередными) дел — более чем предостаточно. А потому вряд ли государь (или государыня) мог в полной мере и в полном объеме уследить за тем, как вели следствия в сыске, какие меры воздействия применяли, какие наказания использовали и насколько последние соответствовали существующим законам. Это могло служить причиной того, что не только самодержцы проявляли своеволие при наказании, но и сами непосредственные руководители спецслужб — Ромодановские (отец и сын), Ушаков, Шувалов, Шешковский и другие, чином поменьше, но с большими амбициями.
По мнению современных исследователей, «было бы ошибкой думать, что в России XVIII века существовало некое единое учреждение, которое, меняя названия, сосредоточивало бы в себе весь тогдашний политический сыск. Установить непрерывную цепочку преемственности сыскных органов: Преображенский приказ (1690-е — 1729 год) — Тайная канцелярия (1718–1726 годы, 1731–1762 годы) — Тайная экспедиция (1762–1801 годы) — не удается. Дело в том, что на государственные институты XVIII века нельзя переносить представления о «правильном» государственном аппарате, выработанные государствоведами XIX века и развитые в современной теории управления. Естественно, что при Петре I заметны тенденции к систематизации, унификации и специализации всей системы управления. Наиболее ярко они проявились в государственной реформе Петра 1717–1724 годов, когда новый аппарат власти создавался на основе учения камерализма. Вместе с тем эта реформа не изменила сути проявлений самодержавия как власти, которая никогда не терпела в отношении себя ни систематизации, ни регламентации, ни унификации каких бы то ни было функций. Не могла она допустить тем более и делегирования своих полномочий какому-либо учреждению или группе лиц. Это и понятно: противное с неизбежностью вело бы к гибели самодержавия — не подконтрольного никаким уставам, законам, регламентам режима личной власти.
В основе работы многих государственных институтов самодержавия, несмотря на общую для государства бюрократическую унификацию, лежали принципы поручений (или, как их называли в XVIII веке, «комиссий»), которые самодержец на время (или постоянно) давал кому-нибудь из своих доверенных подданных. Такие дела назывались «Его, Государя, дело». На принципах порученчества, а не делегирования части полномочий монарха учреждению или человеку и строилось все государственное управление и в XVII, и в XVIII веках. По этому принципу работал и подконтрольный только самодержцу политический сыск. При этом работа порученцев-следователей сочеталась с сыскной работой различных высших правительственных учреждений, а также центральных сыскных учреждений. В отдельные моменты какое-либо из этих учреждений получало в деле сыска преимущество, но потом, опять же по воле государя, отходило на задний план. Преемственность политического сыска выражалась не в преемственности учреждений, которые занимались делами по государственным преступлениям, а в преемственности и неизменности неограниченной власти самодержца [377]. Именно эта власть порождала политический сыск, давала ему постоянные импульсы к существованию и развитию в самых разнообразных организационных формах, контролировала и направляла его деятельность» [378].
Столь длинная цитата позволит нам уяснить, почему знак равенства, стоящий между императором-самодержцем и спецслужбами являет собой действительный факт.
Менялись императоры, менялись руководители спецслужб, менялись, наконец, вывески, под которыми «прятались» политический сыск, разведка и контрразведка, но оставалось одно — подчинение, государственный страх, трепет перед «оком государевым». И все это было возможно только благодаря тому, что сам государь своей твердой рукой направлял деятельность спецслужб. Можно вообще говорить о том, что спецслужбы России (в этом они мало отличались и от спецслужб Запада, как, например, показано в работе Рууда) работали не на государство, но на государя. Впрочем, для того времени, которое мы рассмотрели в этой книге, и то и другое воспринималось как единое, неразрывное целое.
Не нам судить то время, тех правителей и тех чиновников, что вершили следствие и суд. Грустно другое, мы слишком мало знаем о тех, кто «прошел» сквозь застенки, особенно о тех, кто был арестован и подвергся репрессиям по доносам, ничего общего не имеющими с действительностью. Можно было написать добрую сотню книг о судьбе этих несчастных. Но, увы, многое поросло травой забвения.