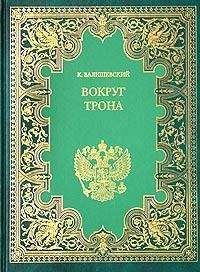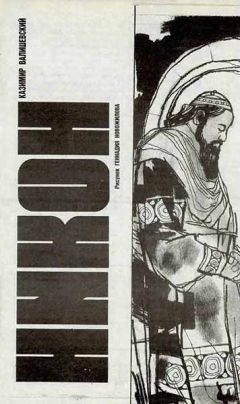Это обстоятельство не помешало торжественному празднованию ее памяти, состоявшемуся недавно в Академии. Но память Екатерины заслуживает тоже защиты от обвинения в несправедливости и неблагодарности, в чем ее можно заподозрить, судя по свидетельству княгини, так как нескольких хвалебных выражений, употребленных в виде ораторского приема, совершенно недостаточно, чтобы изгладить общее впечатление злопамятливой враждебности.[133]
«Не могу я применяться ко всем характерам», выразилась однажды Екатерина, разговаривая с Храповицким о своем бывшем друге. «Она же не в состоянии ужиться ни с кем».
II
В 1773 г., в то время когда Сольмс с сокрушением признавал невозможным прибегнуть к женскому влиянию на Екатерину, у императрицы была наперсница и близкий друг; но из нее нельзя было извлечь никакой пользы: «Государыня хорошо расположена только к графине Брюс, которая никогда не осмеливается говорить с ней о делах», утверждал дипломат. Конечно, были дела, о которых графиня Брюс беседовала с императрицей, но такие, какими совершенно не интересовались ни Фридрих, ни его посланник. Надо сказать правду, что, по всем вероятиям, княгиня Дашкова не согласилась бы заниматься ими. Графиня Брюс занималась ими долгие годы к полному удовольствию своего царственного друга, пока, однажды, ей не случилось, как мы уже рассказывали, при исполнении своих обязанностей забыться, не заметя непритворенной двери. Екатерина отнеслась к своей сопернице милостиво. Корсаков был красив, положение, занимаемое графиней, создавало естественным образом опасную близость между ней и избранниками царской благосклонности, и государыня не могла слишком изумляться, что после нее были оценены по достоинству прелести, с которыми представился случай ознакомиться раньше... Наказание наперсницы ограничилось тем, что она была сослана в изгнание в Москву, вместе с разжалованным фаворитом; здесь она была покинута им. Екатерина навсегда сохранила о ней благосклонную память: «Невозможно не сожалеть о ней, знав ее так близко», – писала она Гримму в 1785 г., сообщая о ее смерти. Секретные обязанности графини, о которых нам теперь неудобно выражаться яснее,[134] были в свое время предметом многочисленных и весьма точных комментариев. Байрон воспел их в знаменитых стихах, описывая первое появление своего Дон Жуана при дворе Екатерины, где графиню Брюса уже заменяла девица Протасова:
Затем императрицею самой
Был поручен особому вниманью
Высоких лиц поручик молодой,
И свет, ее послушен приказанью,
К нему отнесся с лаской и хвалой.[135]
Если верить дипломатическому документу, предназначавшемуся, хотя не прямым путем, дойти до сведения герцога Эгильонского, эти обязанности распространялись на области, еще более подчеркивающими их скабрезный характер. «По-видимому», читаем мы за пометкой 7 августа 1772 г., «желательно, чтобы великий князь [136] не предстал новичком пред своей будущей супругой, и если верить придворным слухам, то г-жа Брюс знакомит его с предвкушениями удовольствий, о которых теория дала ему лишь смутные и опасные представления. Это женщина лет сорока, сохранившая остатки красоты и обладающая прекрасным характером». Автор документа, однако, признает, что по этому поводу возможны сомнения, так как по другим сведениям, более вероятным, первые доказательства возмужалости великого князя были или будут испытаны на одной молодой вдове, здоровой и свежей, по фамилии Чарторыйская».
Сестра великого Румянцева, графиня Брюс, имела мужа, не жившего с ней, – за что можно ее извинить, – но пользовавшегося влиянием жены, чтобы, не имея никаких заслуг, добраться до высокого положения.
Сын шотландца, эмигрировавшего в Россию в эпоху протектората Кромвеля, он был сделан сенатором, генерал-аншефом, генерал-поручиком гвардейского Семеновского полка и, наконец, генерал-губернатором Новгорода и Твери, на место Сиверса.
После катастрофы 1779 г. доверие Екатерины, столь жестоко обманутое, перешло, если верить Гаррису, к девице Энгельгардт, хотя невозможно приписать ей, за недостатком других указаний, унаследование «таинственных» обязанностей графини, которые противоречат ее характеру, насколько его рисуют нам почтенные семейные предания. Эта племянница Потемкина, с другой стороны, слыла, согласно довольно распространенному мнению, дочерью государыни и великого фаворита. Таким образом пытались объяснить исключительное положение, занимаемое ею среди царских приближенных. Она жила во дворце, была обласкана, как любимый ребенок, и окружена свитой, как принцесса крови. Но с исторической точки зрения это предположение еще ничем не доказано, а особое внимание, оказываемое Екатериной, может, кроме того, иметь еще другое объяснение. Выйдя замуж в 1781 г. за графа Браницкого и сделавшись таким образом женой последнего коронного великого гетмана Польши, эта наперсница, служившая нескольким последующим поколениям образцом всех добродетелей, почитаемая своими детьми и внуками, обожаемая, как благодетельная фея, своими украинскими крестьянами, имела за собой при дворе своего царственного друга исключительную заслугу: она сделалась там, со времени последнего раздела республики, выразительным олицетворением победы и слияния, захватившего берега Вислы. В 1790 г. Екатерина умудрилась даже придать ей политическое значение, написав ей письмо, напечатанное в «Гамбургской газете», и разошедшееся по Польше во множестве экземпляров. В этом письме она взывает к благоразумию поляков, охваченных в это время героическим порывом сопротивления чужеземному нашествию, и советует им «не подражать соловью, певшему зажмурив глаза, пока его не проглотила жаба», – сравнение очевидно скорее остроумное, чем лестное для написавшей его.
Что касается Протасовой, которая с 1771 г. занимала место наперсницы для услуг обыкновенных и чрезвычайных, то относительно нее не возникает никаких сомнений; она являлась вполне заместительницей графини Брюс, и положение ее было всеми призвано. Близкая родственница Орловых, дочь сенатора, она кроме своей должности, занималась еще искусным шпионством при малом дворе через посредство Нелидовой, неблагодарной и коварной фаворитки Павла. Родившись в 1744 г., она на много лет пережила Екатерину. С Протасовой мы встречаемся на Венском конгрессе, где залитая брильянтами, словно икона, она везде стремилась занять первое место – вероятно потому, что ей действительно приходилось предшествовать Екатерине при некоторых обстоятельствах.
Относительно Анны Нарышкиной (урожденной княжны Трубецкой), у которой еще в 1755 г. происходили свидания великой княгини с Понятовским, можно сказать, что ее роль в частной жизни Екатерины и в истории фаворитизма сводилась к роли ловкой и осторожной сводни, не забывавшей своей выгоды. При возвышении Зубова она получила дорогие часы, поднесенные ей фаворитом на другой же день по его водворении при Екатерине, и, конечно, благодарность не ограничилась только этим. Екатерина долгое время буквально не могла обходиться без нее. В редких случаях, когда ей приходилось покидать дворец, где для нее была отдельная квартира, ей вслед летали дружески настоятельные послания, торопившие ее скорейшим возвращением: «Я знаю вашу сострадательную душу, знаю, что вы, не щадя здоровья, посещаете больных и умерших, надеюсь, что вы распространите свою доброту и на меня. Я больна и готовлюсь к соборованию; я прибегаю к нему, хотя бы только для того, чтобы вас увидать. Так удостойте же меня своего посещения, если кровопускания и слабительные, промывания и потогонные не удерживают вас дома. Одним словом, являйтесь во что бы то ни стало, несмотря на туман и непогоду, являйтесь, хотя бы для того только, чтобы рассмешить Гюона (лейб-медика), свидетеля этого завещания, которое я вам посылаю. И не забудьте захватить с собой что-нибудь для моего развлечения, потому что человек, принимающий слабительное, всегда настроен меланхолически».[137]
Анна Нарышкина умерла в 1820 г. в доме своего родственника Румянцева, посланника Екатерины при кобленцских эмигрантах, у которого, вдова и бездетная, она поселилась.
Мне обидно упоминать наряду с этими темными и подозрительными личностями имя женщины, которая совершенно другими достоинствами заслужила доверие великой императрицы, превратившееся в почитание у ее преемников. Не место г-же Ливен в этой главе; но так же трудно причислить и отнести ее к другому разряду. Она не поддается определению. Она стоит одиноко среди приближенных Екатерины. Она единственная в своем роде. Один Ливен был преданнейшим соратником Карла XII. Превратности судьбы, обратившей его родину в русскую провинцию, разорили эту семью, бывшую одной из первых в Ливонии. Шарлотта Ливен, урожденная Поссе, супруга генерал-майора русской службы, скромно проживала в Риге, воспитывая своих четырех детей на скудные средства, доставляемые ей небольшой пенсией, когда Сиверс рекомендовал ее Екатерине воспитательницей для дочерей Павла. Она смутилась при мысли, что ей придется расстаться со своим уединением и занять место при дворе, одинаково пугавшем и тем, что она о нем знала, и тем, чего не знала. Но губернатор города, Бродин, получив приказ, исполнил его, как вообще исполнялись приказы Екатерины: посаженная почти силком в дорожную карету, г-жа Ливен была доставлена в Петербург, привезена прямо во дворец и представлена секретарю ее величества, которому было поручено подвергнуть ее предварительному опросу. Он стал ее расспрашивать, и она, еле живая от усталости и волнения, отвечала, жалуясь на тоску о своих покинутых детях, умоляя позволить ей вернуться к ним обратно. Она говорила от всего сердца, как вдруг ее прервал женский голос, суровый и отрывистый, по смягченный выражением благосклонности.