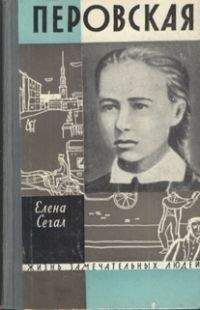Там я очутилась снова в № 43. Очень хотелось пить.
— Заварите, пожалуйста, чаю, — обратилась я к дежурному, — выньте из моих вещей коробку с конфетами.
В коридоре стихло; жандармы не возвращались; в ожидании я прилегла на койку и заснула крепко и сладко. Кажется, никогда еще я не спала так в заключении, так крепко, так сладко.
Быть может, мне снилось, что я опять с матерью и, ласкаясь к ней, говорю, как это бывало не раз: «Мамочка! Какая вы интересная: право, влюбиться можно!» — или я видела, что сестра принесла мне букет чайных роз, еще более нежных и благоуханных, чем прежние?..
Загремел замок, и, прежде чем я успела вскочить, в камере стоял толстый, грубый офицер Яковлев в сопровождении жандарма и крепостного солдата. Не дав мне опомниться, он начал читать документ, бывший в его руке.
Я ничего не понимала, не могла понять: сладкий сон сковывал мое тело и мое сознание. Что такое? Какие-то слова, странное бессвязное перечисление предметов: «Коты, платок из холста в 1 аршин 2 вершка… жестяная кружка… 3000 шпицрутенов…» Ничего не понимаю!
— Подождите одну минуту, — закрывая глаза рукой, сказала я. — Я спала и не могу проснуться; придите немного погодя.
Через четверть часа офицер вошел снова, снова прочел бумагу. Я поняла.
— Пройдите в другую камеру, — сказал жандарм.
Эта была пустая камера рядом, в ней обыкновенно меня обыскивала женщина, приходившая специально для этого. Она и теперь была тут.
На мне было изящное, ловко сшитое платье из тонкого синего сукна. Его привезла мне мать во время суда. Я сняла его и все до нитки, что было на мне; сняла образок, которым меня благословила мать. На койке лежала куча какого-то тряпья. Женщина накинула на меня рубаху крестьянского покроя из грубого, еще не мытого, серого холста и такой же платок в 1 аршин 2 вершка; обернула ноги в холщовые портянки и придвинула неуклюжие, непомерно большие коты, подала юбку из серого солдатского сукна. Я с удивлением смотрела на эту юбку: она была вся изъедена не молью, а какой-то большой прожорливой гусеницей, прогрызшей десятки длинных полукруглых дорожек. Потом она дала серый суконный халат с желтым тузом на спине. Подкладка была пропитана грязью, салом и потом: по-видимому, кто-то раньше долго носил его. Плечи халата спускались далеко вниз, а рукава закрывали кисть руки. Вероятно, эту одежду сменили бы на новую, если бы я стала протестовать. Но я не протестовала: я была в чужой воле и предпочитала молчать.
Уродливая метаморфоза совершилась, и я вернулась в № 43 преображенной Сандрильоной. Перемена была так крута, контраст так силен, что я готова была хохотать дико, неестественно — хохотать над собой, над синим платьем, над рябчиком и над «дюшес».
В камере также произошло изменение: хотя то не был дворец золотой рыбки, превращенный в избушку с разбитым корытом, но все же должно было действовать на воображение.
Два тюфяка, всегда лежавшие на койке, исчезли; их заменил мешок с соломой; из двух подушек осталась одна; вместо одеяла появился кусок старой байки, а на столе белая глиняная кружка превратилась в жестяную. Она была измята, точно исковеркана нарочно; вся в ржавчине, по краям она была зазубрена: по утрам, когда вместо чая мне подавали в ней кипяток с черным хлебом-солью, приходилось искать безопасного места, чтоб не поранить губ.
С переменой обстановки пришел конец просветленному спокойствию, дававшему такую отраду в предшествовавшие дни. Мысль сделала лихорадочный скачок и стала работать возбужденно. Я думала теперь не о себе и не о настоящем, не о моих близких и не о том, что меня ожидает. Мысль почему-то обратилась к судьбам революционных движений вообще, на Западе и у нас, к преемственности идей, к их перебросу из одной страны в другую. Сцены из времен, давно прошедших, лица, давно почившие, воскресали в памяти, и воображение работало, как никогда. Книг у меня не было, да я бы и не могла в эти дни сосредоточить внимание на чем-либо постороннем. Мне дали только евангелие. Когда-то в детстве я увлекалась им; теперь оно не отвечало настроению. Первые дни я не притронулась к его страницам; потом, когда я передумала все свое и возбуждение упало, я читала слова, фразы, но их смысл и значение не вскрывались; чтение было механическое — я просто стала переводить текст сначала на французский, потом на немецкий языки.
В Петропавловской крепости по субботам доктор Вильмс обыкновенно обходил всех заключенных. Явился он в субботу и теперь. Он шел по коридору со смотрителем Лесником и весело разговаривал. Басистый смех его разносился глухо по длинному пустому коридору и еще гудел, когда жандарм отпер мою камеру. Смех резко оборвался, когда он увидел меня; старое, суровое лицо с грубыми чертами лица вытянулось: почти два года он посещал меня и теперь в первый раз встретил в преображенном виде.
Немного отвернув лицо, он спросил: «Как здоровье?»
Странный вопрос, обращенный к человеку, приговоренному к смерти.
— Ничего, — ответила я.
На восьмой день вечером я услышала в коридоре шум отпираемых и запираемых дверей. Очевидно, кто-то обходил камеры. Отперли и мою. Старый генерал, комендант крепости, вошел со смотрителем-офицером и прочей свитой. Подняв бумагу, которую он держал в руке, нарочито громко и раздельно он произнес: «Государь император всемилостивейше повелел смертную казнь заменить вам каторгой без срока».
Думала ли, ожидала ли, что меня казнят? Готовилась ли к этому? Нет, я не думала.
Казнили Перовскую после 1 марта, и эта первая казнь женщины, кажется, произвела на всех удручающее впечатление. Тогда казнь женщины еще не сделалась «бытовым явлением», и после казни Перовской прошло трехлетие.
Но если б приговор остался в силе, я умерла бы с полным самообладанием: по настроению я была готова к смерти. Едва ли я была бы одушевлена энтузиазмом: все мои силы были изжиты, и я просто смерть быструю на эшафоте предпочла бы медленному умиранию, неизбежность которого ясно сознавала в то время.
Так прошли десять дней до 12 октября 1884 года, когда меня увезли — я не знала куда.
Это был Шлиссельбург. Там, в Шлиссельбурге, началась потусторонняя жизнь моя, та еще не изведанная мной жизнь человека, лишенного всех прав, прав гражданских, но, можно сказать, и человеческих прав.
Программа[253] Исполнительного комитета партии «Народная воля»
А
По основным своим убеждениям мы — социалисты и народники. Мы убеждены, что только на социалистических началах человечество может воплотить в своей жизни свободу, равенство, братство, обеспечить общее материальное благосостояние и полное всестороннее развитие личности, а стало быть, и прогресс. Мы убеждены, что только народная воля может санкционировать общественные формы, что развитие народа прочно только тогда, когда каждая идея, имеющая воплотиться в жизнь, проходит предварительно через сознание и волю народа. Народное благо и народная воля — два наши священнейшие и непрерывно связанные принципа.
Б
1) Вглядываясь в обстановку, среди которой приходится жить и действовать народу, мы видим, что народ находится в состоянии полного рабства, экономического и политического. Как рабочий, он трудится исключительно для прокормления и содержания паразитных слоев; как гражданин, он лишен всяких прав; вся русская действительность не только не соответствует его воле, но он даже не смеет ее высказывать и формулировать, он не имеет возможности даже думать о том, что для него хорошо и что дурно, и самая мысль о какой-то воле народа считается преступлением против существующего порядка. Опутанный со всех сторон, народ доводится до физического вырождения, до тупости, забитости, нищенства — до рабства во всех отношениях.
2) Над закованным в цепи народом мы замечаем облегающие его слои эксплуататоров, создаваемых и защищаемых государством. Мы замечаем, что это государство составляет крупнейшую в стране капиталистическую силу, что оно же составляет единственного политического притеснителя народа, что благодаря ему только могут существовать мелкие хищники. Мы видим, что этот государственно-буржуазный нарост держится исключительно голым насилием: своей военной, полицейской и чиновничьей организацией, совершенно так же, как держались у нас монголы Чингис-хана. Мы видим совершенное отсутствие народной санкции этой произвольной и насильственной власти, которая силою вводит и удерживает такие государственные и экономические принципы и формы, которые не имеют ничего общего с народными желаниями и идеалами.
3) В самом народе мы видим еще живыми, хотя всячески подавляемыми, его старые, традиционные принципы: право народа на землю, общинное и местное самоуправление, зачатки федеративного устройства, свобода совести и слова. Эти принципы получили бы совершенно новое направление в народном духе всей нашей истории, если бы только народ получил возможность жить и устраиваться так, как хочет, сообразно со своими собственными наклонностями.