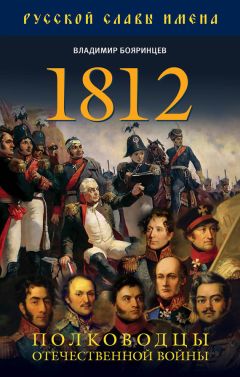Когда через полгода участников этой встречи начнут допрашивать, что побудило их собраться по приезде Грибоедова, они станут давать неопределенные и путаные ответы, доказывать, что это было самое невинное дружеское свидание. Трубецкой в осторожных выражениях скажет, что Грибоедова «испытывали», но он не обнаружил желаемого для заговорщиков образа мыслей, и его оставили в покое. Но добавит: «Разговаривал с Рылеевым о предположении, не существует ли какое общество в Грузии, я также сообщил ему предположение, не принадлежит ли к оному Грибоедов? Рылеев отвечал мне на это, что нет, что он с Грибоедовым говорил; и сколько помню, то прибавил сии слова: «он наш», из коих я заключил, что Грибоедов был принят Рылеевым. <…>… И я остался при мнении моем, что он принял Грибоедова».
В январе 1826 года, когда следствие шло полным ходом, поручик Евгений Оболенский, которого сам венценосный следователь Николай I и исповедник-священник сумели склонить к раскаянию в содеянном, написал императору письмо с приложением списка имен тех, кто был ему известен в рядах заговорщиков. Надо сказать, что список он составил с высокой степенью достоверности. В нем была 61 фамилия, среди них – Грибоедов. Из всех названных оправдаться сумели лишь двое. Один с помощью влиятельного заступника, другой – Грибоедов.
Но это уже совсем другая история, ибо Грибоедов, согласно старой разбойничьей традиции, на все отвечал: «Знать ничего не знаю, ведать не ведаю…» Показания же остальных подсудимых делились надвое. Одна половина признавала, что Грибоедов принадлежал к заговору, другая – отрицала. По существу, это и стало основной причиной оправдания дипломата и писателя, тем более что 14 декабря в Петербурге его не было.
Однако же вернемся к пребыванию Грибоедова в Киеве. В том, что он участвовал в важных политических переговорах, сомневаться не приходится. Другое дело, был ли он просто передатчиком определенных сведений или же членом тайного общества, облеченным высокими полномочиями. Переговоры длились довольно долго, но никаких результатов не дали. Едва ли виноват в этом был Грибоедов, все, кто вспоминал о нем, всегда говорили о его необыкновенном обаянии и редком таланте убеждать. Скорее всего, «южане» не сочли нужным принять условия, выдвигаемые «северянами».
Правда, оставался еще один шанс – привлечь союзников в лице поляков. Декабристы рассчитывали на них.
В дневнике Грибоедова отмечено, что 29 июня уже в Крыму он побывал на «участке Олизара». Граф Густав Олизар – общественный деятель, связанный с польскими политическими кругами и русскими тайными обществами, он киевский губернский предводитель дворянства (1821–1825), помещик и вдобавок ко всему поэт, друг А. Мицкевича. Из-за безответной любви к дочери генерала H. Н. Раевского Олизар удалился в Крым, где выстроил себе виллу, но в то же время частенько бывал в Киеве и Одессе. Он встречался со многими южными заговорщиками.
Как отмечает один из исследователей творчества А. Мицкевича, Олизар «немало содействовал сближению польских и русских заговорщиков и был осведомлен о переговорах, которые они вели в Киеве и Бердичеве в 1824 и 1825 годах». В письме к Бегичеву Грибоедов об этом сообщает очень осторожно и глухо упоминает, что на «участке Олизара» происходило что-то важное: «О Чатырдаге и южном берегу после, со временем».
В своем дневнике Грибоедов отмечал только красоты природы или же соображения исторического характера, хотя за три месяца объездил весь Крым. Он поистине неутомим. Побывал в Симферополе, где местное дворянство устроило ему восторженный прием, в Алуште, Аюдаге, Гурзуфе, Алупке, Симеизе, Балаклаве, Инкермане, Севастополе, Бахчисарае, Судаке, Феодосии, Саблах. Но о поездках, их цели и своей задаче вообще ничего, лишь вскольз о красотах – «роскошь прозябения в Симеисе», «Байдарская долина – возвышенная плоскость, приятная», в Балаклаве – «приятный вид местечка», в Севастополе – «город красив», «Инкерман самый фантастический город», «самая миловидная полоса этой части Крыма по мне Оттузы», «прекрасная Качинская долина» – и все. Но и молчание или умолчание говорит о многом.
Остановимся лишь на одном пункте пребывания Грибоедова в Крыму – Саблах. В краеведческой литературе за Саблами прочно укрепилось название – «крымское гнездо декабристов». Действительно, хозяин Саблов, бывший крымский губернатор генерал Андрей Бороздин принимал у себя многих, так или иначе связанных с декабристами. Но к моменту появления Грибоедова в Крыму Саблы Бороздину уже не принадлежали. Это засвидетельствовано документом от 9 марта 1825 года: «…Генерал-лейтенанту Андрею Михайловичу Бороздину по высочайшему указу выдано было из государственного заемного банка в ссуду 150 000 руб. на правилах 8-ми летних займов сроком с 10 марта 1820 года под залог имения Таврической губернии Симферопольского уезда в деревне Саблы 338 душ со всеми хозяйственными заведениями, фабриками и заводами, которые потом проданы камер-юнкеру графу Завадовскому с переводом на него банковского долгу…»
Но граф А. П. Завадовский – старый приятель, у которого в петербургском доме одно время проживал Грибоедов! Он же и был секундантом Завадовского, когда тот стрелялся с Шереметевым – знаменитая «дуэль четверых». Воистину мир тесен!
Самого графа в Крыму тогда не было, однако Грибоедов отметил в дневнике, что приняли его очень тепло. Последняя дневниковая запись гласит: «Приезжаю в Саблы, ночую там и остаюсь утро. Теряюсь по садовым извитым и темным дорожкам. Один и счастлив» (12 июля). Единственное упоминание Грибоедова и не только в дневнике о счастье, куда больше о печалях и тревогах.
Вот стихотворение этой поры:
Не наслажденье жизни цель,
Не утешенье наша жизнь.
О! не обманывайся, сердце.
О! призраки, не увлекайте!..
<…>
Мы молоды и верим в рай, —
И гонимся и вслед и вдаль
За слабо брезжущим виденьем.
Постой! и нет его! угасло! —
Обмануты, утомлены.
И что ж с тех пор? —
Мы мудры стали,
Ногой отмерили пять стоп,
Соорудили темный гроб,
И в нем живых себя заклали.
Премудрость! вот урок ее:
Чужих законов несть ярмо,
Свободу сохранить в могилу,
И веру в собственную силу,
В отвагу, дружбу, честь, любовь!!!
В письмах к Степану Бегичеву из Крыма Грибоедов жалуется на отсутствие вдохновения, на томящую его тоску. Вот письмо от 12 сентября:
«А мне между тем так скучно! так грустно! думал помочь себе, взялся за перо, но пишется нехотя, вот и кончил, а все не легче. Прощай, милый мой. Скажи мне что-нибудь в отраду, я с некоторых пор мрачен до крайности. – Пора умереть! Не знаю, от чего это так долго тянется. Тоска неизвестная! воля Твоя, если это долго меня промучит, я никак не намерен вооружиться терпением; пускай оно останется добродетелью тяглого скота. <…> Ты, мой бесценный Степан, любишь меня тоже, как только брат может любить брата, но ты меня старее, опытнее и умнее; сделай одолжение, подай совет, чем мне избавить себя от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди».
Грибоедов умел распоряжаться своими чувствами, так что едва ли он впал в черную меланхолию только потому, что ему не писалось. В этом письме есть такая фраза: «Я с некоторых пор мрачен до крайности». С каких же это пор? Судя по дневниковым записям, в июне и в первой половине июля мрачные мысли Грибоедова не тяготили. Они пришли позже – и мрачные мысли и тоска. Уж не после ли свидания с польскими заговорщиками у Олизара? Тогда становится ясно, что «ипохондрия» Александра Сергеевича порождена результатами переговоров со всеми, кого надлежало привлечь в союзники, но сделать этого не удалось и с точки зрения Грибоедова, картина была настолько неутешительная, что впору было стреляться.
Как мы знаем, после гибели «друзей и братьев», Пушкин тоже пребывал в скорби, но все же в его черновых записях есть и такие строки: «повешенные повешены…», словно он смирился, и боль успокоилась, переболела. Все-таки, думается, не его это было дело – восстание, недаром, по свидетельству Пущина, его не приняли в члены тайного общества – то ли не доверяя поэту, то ли не желая жертвовать его талантом, то ли действительно понимая, что все это – не его и не для него.
С Грибоедовым – все иначе. Так глубоко переживать неудачу переговоров можно было только, если воспринимаешь их как крушение своих личных интересов.
Переживания Грибоедова помогает понять некоторый момент в мемуарах Степана Бегичева, а ему Грибоедов доверял самые сокровенные свои мысли. Бегичев вспоминал о дружбе со своим знаменитым другом много лет спустя, и даже тогда многое не договаривал, но многое и сказал.