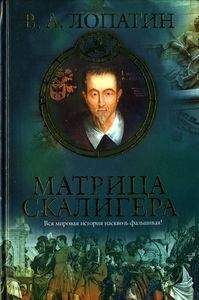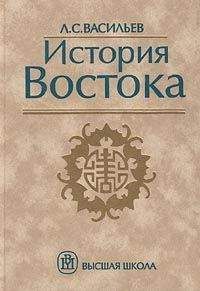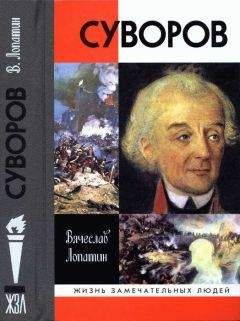Этнографическая неразбериха царит на страницах книг всех авторов того времени. Восточная Европа наводнена скифами, сарматами, готами, даками, гуннами и другими древними племенами и народами. Многих из них можно встретить в описании истории одной страны, а затем, их же самых, — в другой. Всё это идет вперемешку с венграми, поляками, русскими, татарами или, например, казаками. Одни авторы, упоминая старые народы, вставляют слово «древний», другие об этом «забывают». И если в одном случае, когда, описывая современных русских, автор говорит о скифах, и из контекста становится понятно, что это просто образное сравнение, то в другом кажется, что историк действительно видит этих скифов или сарматов в XVIII веке.
Во втором томе «Истории Петра», вышедшем в 1763 году, Вольтер описывает Россию как край, где
«скифы, гунны, массагеты, славяне, киммерийцы, готы и сарматы и сейчас находятся в подданстве у царей».
Цит. по: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. М., 2003. С. 31
Французскому путешественнику Луи Филиппу де Сегюру, въехавшему в Польшу, показалось, что он очутился среди
«полчищ гуннов, скифов, венедов, славян и сарматов».
Там же. С. 56
Похоже, что французский граф ничего не понимал ни в истории древней, ни в современной. Будучи в России и глядя на крестьян, он «видел» оживших скифов, даков, готов и прочие древние народы из совсем других мест. Путешествовал Сегюр во второй половине XVIII века, но найти в его наблюдениях какой–либо исторический смысл, кроме как то, что и в Польше, и в России он попал к варварам, невозможно.
Американский путешественник Джон Ледьярд, участник последней экспедиции капитана Кука, посетив в 1787 году Санкт–Петербург и оценив обстановку, написал Томасу Джефферсону, бывшему тогда послом в Париже, чтобы тот мог не беспокоиться — второго вторжения готов, гуннов или скифов не ожидается. Сам же Ледьярд скифского нашествия не избежал, записав, что однажды с ним за одним столом оказался «скиф, принадлежавший к местному Медицинскому обществу». Современный историк, комментируя пассаж Ледьярда, называет это шуткой, основанной на традиционном для XVIII века смешении Восточной Европы с древней Скифией. А мы, комментируя историка, заметим, что когда шутки становятся систематическими, то это уже не шутки.
Скифомания благополучно просуществовала до самого конца просвещенного века, а её апофеозом, пожалуй, было эмоциональное потрясение Наполеона, воскликнувшего, глядя на пылающую Москву: «Это настоящие скифы!» Для императора поджог своей столицы был настоящим варварством.
Засилие древних народов на страницах века Просвещения непонятно. Даже если исходить из того, что постоянное их упоминание является литературным приемом для лучшего изображения восточноевропейского населения, например, для подчеркивания его варварства, — это всё равно кажется странным. Ведь все эти древние народы являются античными, то есть обитавшими в Европе за полтора—два тысячелетия до XVIII века. Описывать современный предмет посредством его такого глубокого прошлого абсурдно. При этом никаких других народов, обитающих в этом гигантском хронологическом разрыве, не существует. Ясно, что здесь что–то не так. Если же отбросить традиционные хронологические схемы и посмотреть на описания Восточной Европы не предвзято, то единственным объяснением этой странности будет существование древних народов непосредственно до современных. Непосредственно — это за пятьдесят, может, сто, но не более лет.
В этом случае будет понятна и «ошибка» Вольтера, смешавшего вместе скифов и татар. Если первые татары предстали перед европейцами в ХIII веке, то крымские, о которых как раз и пишет историк, объявившись в XV, никуда не исчезали и преспокойно дожили до XVIII века, то есть до самого Вольтера. Вместе с ними дожили и скифы, только теперь их вс` чаще стали называть по–другому.
Гиббон, изображая Восточную Европу, современную и древнюю, смешивает старые и новые названия. Так, независимо от описываемого периода, он упорно именует Днепр Борисфеном, на берегах которого у него в разное время обитают и скифы, и казаки. Англичанин Уильям Кобетт в 1801 году также видит на современной карте именно античный Борисфен. Описывая Украину, Гиббон приходит к выводу, что, находясь в руках казаков, она осталась в своем древнем первозданном виде. Борисфен же в XVIII веке оказывается символом этой неизменности.
Забавно, что Гиббон пытается проследить маршрут переселения древних готов, но этот путь удивительным образом совпадает с тем, которым двигался шведский король Карл. Готы также отплывают из Скандинавии, пересекают Балтийское море, идут на юг через Польшу, попадают на Украину и наконец оказываются в Крыму. Даже пути движения — и те не меняются.
В хаосе этнографии, который сеяли историки Просвещения, можно обнаружить некоторые закономерности. Так, например, под территорией древней Сарматии чаще всего подразумевалась Польша, а древняя Скифия ассоциировалась с Россией. Соответственно, сарматы и скифы оказывались древними поляками и русскими. Однако до конца разобраться и понять, кто есть кто, мыслителям XVIII века, независимо от того, сидели они уединенно в своих кабинетах или оказывались на чужбине за одним столом со скифами, было не по силам. Объяснить это можно только отсутствием исторической науки в предшествующее время. Вследствие чего просветители обладали очень низким уровнем исторических знаний. Подтверждается это и состоянием восточноевропейской картографии.
Географические карты Восточной Европы в середине XVIII века были очень несовершенны. Именно это обстоятельство подвигло Вольтера написать, что Карл на Украине не знал, куда он двигается. Отсутствие собственных знаний об украинской географии привело писателя к мысли, будто шведский король был в аналогичной ситуации и отправился в поход в неизведанные земли неподготовленным.
Через три десятка лет после того, как Вольтер объявил Украину неизвестной страной, то же самое фактически сделал английский путешественник Джозеф Маршалл, который считал, что эта страна находится так далеко от маршрутов путешественников, что её никто не посещает. Пытаясь разобраться с географией Восточной Европы, но находясь ещё в Англии, Маршалл перерыл доступную ему литературу и пришел к горькому выводу, что современные карты не содержат ничего нового, оставшись такими же, какими были двести лет назад. Неудовлетворенность исследователя понятна, однако эти двести лет вызывают вопрос: кто же составлял карты тогда и почему процесс был прерван на такое длительное время? Всего скорее, Маршалл столкнулся не с застоем, а с зарождением картографии, чем и объясняется её неразвитость. Мысль же о двухвековом периоде возникла вследствие фальсификации и удревнения английской истории, в ходе которой «состарились» и некоторые карты.
Англия приобретала в России лен и коноплю, закупка которых производилась в северных портах России. Поэтому англичане, знакомые только с русским Севером, наивно полагали, что эти виды произрастают посреди вечных снегов и морозов. В 1772 году Маршалл просветил своих соотечественников, поведав им, что Россия не является сугубо северной страной, и что лен и конопля выращиваются в её южных землях, например на Украине. О масштабной экспансии России на юг англичане ничего не знали, для них и даже для пытливого Маршалла эти события, по его же объяснению, происходили в «отдаленных частях света» и поэтому оставались «совершенно неизвестными». Все это демонстрирует реальный уровень развития географических, геополитических и естественнонаучных представлений в Англии в то время.
Возвращаясь к проблеме географических карт, следует отметить, что нормальная картография в XVIII веке могла осуществляться только методом астрономической съемки местности. Это означало наличие громоздкого инструментария и специально обученных для работы с ним людей. Ничего этого в Восточной Европе не было, а обычные западноевропейские путешественники не обладали ни инструментами, ни специальными знаниями. Для проведения астрономической съемки нужны были ученые, которых, естественно, среди всех любопытствующих, кто пересекал восточную границу, было очень мало. Поэтому карты восточноевропейских земель делались, что называется, «на глазок» и получались соответствующего качества. В результате путешественник, вооруженный такой картой, оказавшись в Восточной Европе, обнаруживал свою полную беспомощность.
Даже во второй половине XVIII века карты из–за своей редкости ценились буквально на вес золота. Астрономическая съемка требовала очень много времени, карты вычерчивались медленно, а начавшиеся военные действия могли еще больше затормозить процесс вплоть до его полной остановки.
«Я скорее отдам свои бриллианты, чем мои карты!»