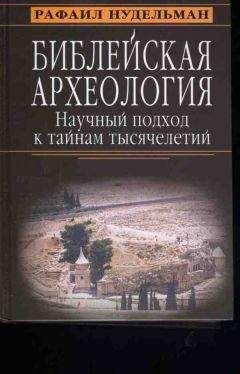С еретиками христианство всегда расправлялось круто. Гностицизму грозило полное исчезновение из человеческой памяти. К счастью, Ириней с группой товарищей перестарались. В их сочинениях эти еретики цитировались так обильно, что вдумчивые люди из одних этих цитат могли составить представление о гностических доктринах. А историки религии XIX–XX веков разбирались в древнем гностицизме уже весьма неплохо. Находка в Наг-Хаммади позволила им сделать следующий огромный шаг в развитии и обобщении этих представлений.
Что же так раздражало христианских ортодоксов в гностическом учении? Возьмем, к примеру, один из текстов наг-хаммадийских свитков, апокриф, который называется «Евангелие от Фомы» (в «Новом завете» вы его, разумеется, не найдете). Начинается оно так: «Здесь содержатся тайные слова, сказанные живым Иисусом и записанные его братом-близнецом Иудой Фомой». Тут даже самый поверхностно знакомый с христианством человек содрогнется. Оказывается, у Иисуса был брат-близнец! Оказывается, Иисус поведал ему какое-то «тайное знание»! Раз «тайное» — значит, не то, которое содержится в канонических Евангелиях. Что же это за знание?
Намеки на эту тайну рассеяны по наг-хаммадийским свиткам в превеликом множестве. К примеру, в тексте «Свидетельство истины» рассказывается совершенно сенсационная история Змия, который, оказывается, первым пытался принести людям свет «тайного знания», но встретил яростное сопротивление «так называемого Бога», пригрозившего Адаму и Еве смертью, если они вкусят от злополучного яблока. А в тексте с поразительным названием «Громыхающий идеальный разум» некая загадочная «Высшая богиня» выражается о себе таким дзэн-буддистским слогом: «Я та, которую чтут и поносят, я шлюха и святая, я мать и девственница, я первая и последняя, я непостижимое молчание и я же невыразимый звук моего имени».
Гностики были решительно неортодоксальны и в толковании самого Иисуса, и в объяснении его миссии на земле. У ортодоксов Иисус отделен от сынов человеческих уже тем, что он «Сын Божий», а у гностиков Бог и человеческое Я — одно и то же: «Познай, кто это такой внутри тебя говорит — моя мысль, моя душа, мое тело, и ты обнаружишь Бога в самом себе», — говорит гностический автор Моноимус. У ортодоксов Иисус говорит в основном о «первородном грехе», который он пришел «искупить», а у гностиков он занят прежде всего развенчанием иллюзий, которые скрывают от людей «истинное положение вещей в мире», «истинное знание». И говорит Иисус Фоме: «Кто пьет из кипящего источника истины, из которого пью и Я, тот становится Мною, и Я становлюсь им». Не потому ли Фома и назван его братом-близнецом?
Сквозная тема всех гностических текстов — поиск тайного знания, по-гречески — «гнозиса». Отсюда и название. Какие-то загадочные, словно нарочито созданные кем-то иллюзии скрывают от людей истинную природу мира и самого Бога, и то, что люди принимают (а ортодоксальные христиане выдают) за истину, ей на самом деле противоположно. Может, и сам Бог подложный? Да и существует ли Он вообще? Один из гностических авторов говорит о «Несуществующем Боге». Не в том смысле, что Его нет, а в том, что Он не существует в принятом толковании этого слова, не может быть определен в обычных терминах, разве что в отрицательных: Он не то, и не то, и не то.
Эту мысль позднее подхватили у гностиков такие знаменитые средневековые мистики, как Николай Кузанский и Якоб Беме. А уже у них — кое-какие мистики нашего времени. Точно так же, как Юнг заимствовал у них убеждение в наличии у божества женской ипостаси, а Хайдеггер — некоторые представления о природе человеческого бытия, вошедшие — уже через хайдеггеровские сочинения — в основы современного экзистенциализма. О том, что заимствовал у гностиков фашизм, популярно рассказано в переведенной (много лет назад) на русский язык книге Бержье и Пауэлла «Утро магов», а более научно — в недавно вышедшей (по-английски) книге «Гностические корни нацизма». Любопытно, что почти так же называется более давняя книга известного французского историка Алана Беансона, только у него — «Гностические корни ленинизма»! Гностические корни, несомненно, есть, как я уже говорил, и у более мелких духовных течений эпохи, но они все еще ждут своих исследователей.
Гностики, в общем-то, всего лишь передали эстафету. Они и сами многое заимствовали. Внимательный читатель наверняка заметил; что разговоры об «истине, скрывающейся за покровом иллюзий», очень напоминают индийские рассуждения о «покрове Майи», скрывающем от людей высшую истину бытия, то, «каково оно есть на самом деле», а сами «иллюзии» очень похожи на платоновские «тени вещей», которые носятся на стене Пещеры, где томится человеческий разум, принимая эти тени за те абсолютные «идеи», из которых, по Платону, слагается истинная реальность.
Не случайно Адольф Гарнак, один из первых исследователей гностицизма, когда-то назвал гностиков «распоясавшимися платонистами», а британский историк Гонзе возвел зарождение гностических идей к влиянию буддистских проповедников, которые активно миссионерствовали в Александрии в I–II веках н. э. С другой стороны, Мориц Фридландер доказывал, что многое в учении гностиков восходит к «еретическим» идеям иудаизма того же времени. У гностиков, действительно, был жестокий спор с иудаизмом, может быть, даже более жестокий, чем с христианской ортодоксией, и такой беспощадно страстный, какой бывает только между очень близкими родственниками.
Гностики отвергали «претензии» иудаизма на абсолютную истину с той же яростью, что и претензии первохристиан; но они же впоследствии возместили иудаизму «убытки», вдохновив его на создание гаонической мистики (как позднее, видимо, одарили создателя ислама мистической идеей «цепи пророков», а сам ислам вдохновили на создание суфизма и исмаилизма; но об этом — в следующей части нашей книга).
Но, может, дело обстояло наоборот, — еврейская мистика предшествовала гностицизму? К этому следовало бы вернуться, но мы сейчас ограничимся тем, что передадим слово арбитру, который лично мне представляется наиболее глубоким из всех, — уже упоминавшемуся ранее Гансу Йонасу. В своем классическом произведении «Гнозис и дух позднеантичной эпохи» он набрасывает грандиозную картину того, как в недрах созданного Александром Македонским эллинистического мира постепенно и исподволь на протяжении нескольких столетий вызревал поразительный и уникальный сплав многочисленных восточных и западных религиозных и мистических учений и культов и как затем эта духовная магма, вырвавшись из ближневосточных недр, хлынула на Запад в грандиозном контрнаступлении, в котором Восток взял реванш за предшествующее — политическое отступление перед Западом. (Отметим, что под Западом Йонас подразумевал Грецию, а под Востоком — то, что мы и сегодня так называем.)
Так вот, подыскивая слова для определения центрального ядра этого гигантского духовного процесса, наложившего неизгладимый отпечаток на всю последующую историю западной цивилизации, Йонас долго выбирает между различными возможностями — «временный триумф иудаизма», «победа иудеохристианства» и т. п., — пока не приходит к тому главному, что, на его взгляд, объединяло и пронизывало все эти разнородные составляющие. Это было, говорит он, «вторжение гностицизма».
При таком подходе становится понятным, почему гностицизм обнаруживает такое глубокое сходство со столькими и столь разнородными учениями и доктринами древности, начиная с мистики иудаизма и платоновской философии и кончая отголосками буддизма. Становится понятным и то, почему гностицизм, как утверждает Йонас, оказался главной и сквозной идеей позднеантичной эпохи и почему сумел оказать столь мощное влияние на духовное развитие человечества, что это влияние ощущается и в наши дни, — ведь он объединял в себе множество различных влияний и тем самым, как сказали бы химики, имел множество «свободных валентностей», которые позволили ему объединяться с самыми разными мистическими идеями позднейших времен и оплодотворять их своим влиянием. Примерно так же (но в куда меньшем масштабе) вторгся (уже в нашу эпоху) в духовную жизнь России марксизм с его щупальцами свободно-валентных идей, только и ждущих, к кому бы присосаться — то ли к символизму, то ли к богоискательству, то ли к рабочему движению.
О гностицизме можно рассказывать долго. На этом закончим наше повествование.
ГЛАВА 1
А БЫЛА ЛИ ОНА ВООБЩЕ?
«Я начинаю реальную историю Греции с первой Олимпиады, т. е. с 776 г. до н. э… Ибо, говоря по правде, то, что называется историческими свидетельствами, попросту не существовало раньше. Все предшествующие времена… — это область поэзии и легенд».,
Г. Гроте, «История Греции», 1846 г.
История насмешлива. Отодвигая события в прошлое, она делает их сомнительными (порой незаслуженно сомнительными) для потомков. При этом, будучи одинаково равнодушной ко всему в себе, она и в этом вопросе не знает исключений. «Я слышал сомнения в реальности Трои», — писал Байрон после посещения Гиссарлыкского холма. И предрекал, улыбаясь: «Со временем усомнятся и в Риме». Подлинность Древнего Рима пока еще несомненна, но реальность Троянской войны в последние столетия действительно стала — предметом бурных споров. Не то было раньше. «Для античности, — говорят Гиндин и Цымбурский, — Троянская война была несомненным фактом… О ней напоминали родословные, идущие от ее героев, названия основанных ими городов, гавани, где были стоянки их кораблей». Эти родословные и названия были известны всем. Великий Вергилий в своей поэме «Энеида» писал, что когда уцелевший троянец Эней в своих странствиях навстречу судьбе (ему было якобы предназначено основать Рим, который возродит троянскую славу) добрался до далекого Карфагена, что на другом от Трои конце Средиземного моря, и попытался поведать тамошней царице Дидоне, откуда он родом, оказалось, что Дидона и сама уже может рассказать ему историю осады и гибели Трои и ее героев. Как объясняет В. Топоров в своей книге «Эней — человек судьбы», Вергилию, писавшему в I веке до н. э., представлялось очевидным, что в Энеевы времена о падении Трои должен был знать каждый средиземноморец, коль скоро это было реальное событие, потрясшее весь средиземноморский мир.