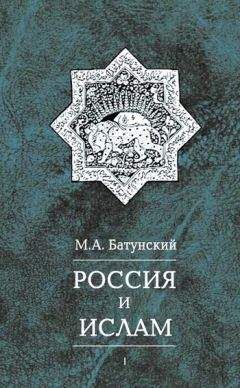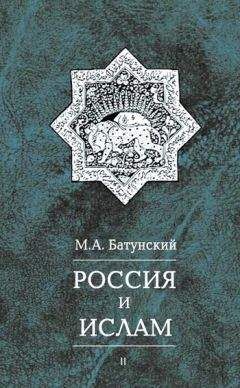106 Было бы интересно проследить – и на русском и на западноевропейских средневековых и ренессансных материалах – изменение представлений об исламе как носителе Зла. Если воспользоваться – употребленными, конечно, в ином контексте – известными образами Н. Винера (см. его: «Кибернетика и общество». Пер. с англ., М., 1958. С. 47–48), то можно сказать, что вначале ислам уподоблялся дьяволу манихейцев, существу рафинированной злобы, стремящемуся запутать нас, тогда как потом он скорее стал напоминать дьявола августинцев, который не представляет сам по себе автономной силы, а лишь показывает «меру нашей слабости».
107 Ее же политическое развитие носило, особенно с XVI в., сильно противоречивый характер: одна линия вела к сословно-представительной монархии общеевропейского типа, вторая – к абсолютизму с отчетливыми чертами восточной деспотии (см. подробно: Черепнин Л.B. К вопросу о складывании сословно-представительной монархии в России (XVI в.) // История СССР. 1974, № 5. С. 51–70). Во всяком случае, Д.Флетчер, английский посол в России конца XVI в., имел серьезные основания говорить о близости правления в этой стране с турецкой деспотией (см.: Флетчер Д. О государстве Русском. СПб., 1911. С. 41). Этот круг вопросов обстоятельно освещен в книге: Шмидт С.О. Становление российского самодержавства. Исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., «Мысль», 1973.
108 Обильный материал по древнерусской и московской дипломатической лексике, путей ее образования, развития и семантических изменений в сторону «прагматизации», «секуляризации» см.: Сергеев Ф.М. Русская дипломатическая терминология XI–XVII вв. М., 1971. О правилах и технике дипломатических контактов – также все более становившихся «трансконфессиональными» – см.: Ченцова Е.И. Русская посольская служба в конце XV – первой половине XVI в. // Феодальная Россия во всемирно-истори-ческом процессе. С. 294–311. Жаль только, что все эти интересные факты не подвергнуты глубинной интерпретации. А между тем было бы весьма полезно обратиться, например, к аппарату теории коммуникации – особенно, конечно, когда необходимо проанализировать различные дипломатические акты, причем коммуникационные процессы надо будет понимать в рамках деятельностного подхода (об этом см. подробно в статье Йекса Альвуда в: The Structure of Action. Ed. by M. Brenner. Oxford. Blackwell, 1980). В таком случае в структуре вербальной коммуникации следует выделять ряд семантических параметров – инструментальный, экспрессивный, эвокативный (стремящийся оказать влияние), а также облигативный параметр информационной организации и параметр контекстуальной ориентации. Нетрудно будет, далее, заметить, что в «дипломатическом языке» (о его пластах в таких литературных произведениях рубежа XIV–XV вв., как «Слово о Вавилоне» и «Сказания об Индийском царстве», см.: Дробленкова Н.Ф. Взаимоотношение литературы и деловой письменности в XV в. (Постановка вопроса) // Пути изучения древнерусской литературы и письменности. Л., 1970. С. 56–64) увеличивается количество существительных, относящихся к семантическому полю «время», и, напротив, уменьшается (за счет насыщенности и другой абстрактной лексикой) запас иконических знаков и т. п. В общем, он проявит признаки уже не «природного», а «обработанного языка» (см. о таковых: PohlJ. L’homme et le significant. P: Nathan; Bruxelles: Labour. 1972. I, II). Важно, наконец, вспомнить и о том, что «уже к началу появления письменности на Руси… политические программы формулировались с железной энергией и почти пословичной определенностью» (Дмитриев Л.А., Лихачев Д.С., Творогов О.В. Тысячелетие русской литературы // Русская литература, 1979, № 1.С. 3).
109 См. о ней: Pelenski J. Russia and Kazan: Conquest and Imperial Ideology (1438–1566). Mouton. The Hague-Paris, 1974; Гольдберг АЛ. К предыстории идеи «Москва – третий Рим» // Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М., 1976. С. 111–116.
110 Но этот же прагматизм сосуществовал с намеренно-гипертрофиро-ванным стремлением к утверждению любой ценой в ходе дипломатических контактов «чести российского государства». Показательно в этом плане первое (1496–1498 гг.) русское посольство Михаила Плещеева в Крым и Турцию (см. подробно: Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными // Сборник русского исторического общества. Т. 41. СПб., 1884. С. 231–236, 241–249; Неклюдов А. Начало сношений России с Турцией. Посол Иоанна III – Плещеев // Сборник Московского главного архива, Министерство иностранных дел. Вып. III, М., 1883; Временник Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 15. М., 1852, Материалы с предисловием И.Д. Беляева. С. 213). Плещеев, точно исполняя указания своего правительства, держал себя в Турции в высшей степени независимо. Так, он отказался стать перед султаном на колени – что, однако, делали послы других государств. Именно о посольстве Плещеева писал Маркс в «Секретной дипломатической истории XVIII века»: «Сам султан Баязид, перед которым трепетала Европа, впервые услышал высокомерные речи московита» (Цит. по: Дипломатический словарь. Ч. II. М., 1950. Стлб. 416).
111 См. также: Seebohm Th. М. Ratio und Charisma. Ansâtze und Ausbildung eines philosophischen und wissenschaftlichen Weltverstândinses im Moskauzer Russland (Meiner philosophischer Forschungen. Bd. 17). Bonn, 1977.
112 Что в свою очередь обусловливало расхождение между языком теории и языком наблюдения, причем (с позиций терминологии логического позитивизма) второй будет характеризоваться более низким «типом» (в понятиях Бертрана Рассела), чем первый (см. подробно: WùrtzD. Das Verhâltnis von Beobachtungs und theoretischer Sprache in der Erkenntnistheorie Bertrand Russels. Frankfurt a-M. efs., 1980). Однако саму процедуру разделения языка на теоретический и эмпирический надо рассматривать, скорее всего, как логически произвольное разграничение между двумя последовательными ступенями понятий.
113 Здесь и далее я пользуюсь дефинициями из статьи: Hill АЛ. A Program for the Definition of Literature // Texas Studies in English. 1958. 37. P. 47–52.
114 О «теории действий» и «теории событий» см: Davidson D. Essays on Actions and Events. Oxford: Clarendon press. 1980.
115 О примате подчеркнуто-дескриптивного, сознательно отворачивающегося от широких генерализаций – и потому нацеленного на поиск изолированных образов, на выявление смутных и неотчетливых оттенков смысла термина «мусульманский мир», могущего прояснить только отдельные моменты и аспекты его сложной структуры, но не дать целостное представление о нем, – курса в русской исламистике даже XIX – начала XX в. см. подробно: Смирнов НА. Очерки истории изучения ислама в СССР. М., 1954. Г. III.
116 Конечно, нельзя – в данном контексте особенно – сводить все к коллизии между «истинностью научного знания» и «ложностью априорно-догматической, воинствующе-религиоцентристской установки» и т. д. Ведь истинность свойственна не только научному знанию – ее могут включать донаучные практически-обыденные знания, мнения, догадки и т. д. Иное дело, что практически-обыденное знание получает обоснование из повседневного опыта, из некоторых индуктивно-остановленных рецептурных правил (см.: Juhos В. Uber die Definierbarkeit und empirische Anwendung von Disposition-sbegriffen. Kantstudien. H. 3. Wien, 1959/60), которые не обладают необходимой доказательной силой, не имеют строгой принудительности, логически очевидной демонстративности и т. д. Что же касается средневековой христианской «теории ислама» – теоретико-познавательный потенциал которой нет никаких оснований полностью скидывать со счетов, – то она имела все те признаки, которые обычно приписывают «научному знанию. Я имею в виду прежде всего строгую причинно-следственную структуру, формирующую чувство субъективной убежденности в обладании истиной в пределах данного мировоззрения, – чувство, детерминирующее обязанность субъекта признавать логически обоснованную, дискурсивно доказательную, организованную, «системитически связанную», интерсубъективную истину.
117 Эта же ситуация означала и серьезные сдвиги в структуре соответствующих информационных потоков. Ведь любая информация, заключенная в сообщении, может быть разделена как бы на две составляющие, на два типа. Первую составляющую информации можно было бы условно назвать смысловой информацией, а вторую – кодово-коллективной. Последняя зависит и от формы сообщения и от принятых в данном коллективе отношений, которые «почти не влияют на смысл сообщения, но определяют наше восприятие сообщения, «эмоциональную окраску» воспринятого сообщения» (Пробст МЛ. Текст в системах коммуникаций // Структурная лингвистика. 1979. С. 10). Кодово-коллективная составляющая – основа художественных текстов, рассчитанных в первую очередь на чувственное восприятие, стремящихся к многозначности, к увеличению интерпретаций, к множеству ассоциаций, связей с другими частями понятийной системы. По мере того как в процессе реализации миропознавательной функции русской культуры увеличивалась роль текстов о мусульманском Востоке, обладающих однозначной и полной воспроизводимостью (в том числе и дающих в первую очередь «сухую информацию» всевозможных «отчетов» о путешествиях, дипломатических документов и т. п.), падала значимость – во всяком случае, в политологическом плане – текстов художественных. В них факты служат лишь фоном, сценой для развертывания эмоционально воспринимаемых событий, и логика поэтому нужна лишь как средство индуцирования наплыва сентиментальности. Некоторые иллюстрации к этому – интерпретированные, впрочем, совсем в ином духе – можно найти в книге: Лихачев Д.С. Культура Руси эпохи образования русского национального государства (конец XIV – начало XVI в.). М., 1946; в сборнике статей под редакцией Я.С. Лурье «Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе». Л., 1970.