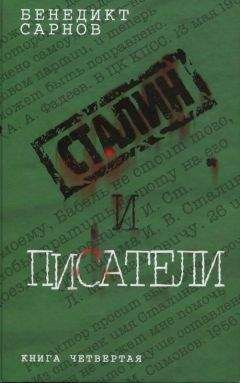Во всех собраниях сочинений Бабеля этот его рассказ, написанный весной 1930 года, фигурирует именно как рассказ. Но в первой публикации («Новый мир», 1931, № 10) у него был подзаголовок: «Первая глава из книги «Великая Криница». Даже по этим нескольким приведенным здесь коротким отрывкам из этого небольшого рассказа можно понять, почему эта бабелевская книга, если она и было написана, не дошла до нас: погибла вместе с другими рукописями, составившими пятнадцать папок, изъятых при его аресте.
Так или иначе, этот короткий бабелевский рассказ никаких сомнений насчет истинного отношения его автора к создаваемому Сталиным колхозному строю не оставляет.
Так же обстоит дело и с отношением Бабеля к следующему крутому повороту сталинского Большого террора, началом которого стал первый из громких московских судебных процессов — процесс так называемого Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра. Оно тоже было совсем не таким, какой была реакция на этот процесс и подготовку к нему далеко не самых наивных собратьев Исаака Эммануиловича по писательскому цеху.
► ИЗ ДНЕВНИКА К.И. Чуковского
5 января 1935 г.
Очень волнует меня дело Зиновьева, Каменева и других. Вчера читал обвинительный акт. Оказывается, для этих людей литература была дымовая завеса, которой они прикрывали свои убогие политические цели. А я-то верил, что Каменев и вправду волнуется по поводу переводов Шекспира, озабочен юбилеем Пушкина, хлопочет о журнале Пушкинского Дома и что вся его жизнь у нас на ладони. Мне казалось, что он сам убедился, что в политике он ломаный грош, и вот искренне ушел в литературу — выполняя предначертания партии. Все знали, что в феврале он будет выбран в академики, что Горький наметил его директором Всесоюзного Института литературы, и казалось, что его честолюбие вполне удовлетворено этими перспективами. По его словам, Зиновьев до такой степени вошел в литературу, что даже стал детские сказки писать, и он даже показывал мне детскую сказку Зиновьева с картинками... очень неумелую, но трогательную. Мы, литераторы, ценили Каменева в последнее время, как литератор, он значительно вырос, его книжка о Чернышевском, редактура «Былого и дум» стоят на довольно высоком уровне. Приятная его манера обращения с каждым писателем (на равной ноге) сделала то, что он расположил к себе: 1) всех литературоведов, гнездящихся в Пушкинском Доме; 2) всех переводчиков, гнездящихся в «Academia», и проч., и проч., и проч. Понемногу он стал пользоваться в литературной среде некоторым моральным авторитетом — и все это, оказывается, было ширмой для него как для политического авантюриста, который пытался захватить культурные высоты в стране, дабы вернуть себе утраченный политический лик.
(К. Чуковский. Собрание сочинений. Т. 12. Дневник. 1922-1935. М., 2006. Стр. 556).Что-то все-таки мешает Корнею Ивановичу до конца поверить этому «Обвинительному заключению». Он колеблется, сомневается. Но изо всех сил старается заглушить эти свои сомнения, ищет - и находит - все новые и новые аргументы, подтверждающие истинность, непреложность этой официальной версии:
► Так ли это? Не знаю. Похоже, что так. Я вспомнил один эпизод на Съезде. Каменев жил на даче под Москвой. Об этом его жена, Татьяна Ив., которую я встретил в Колонном зале, сказала мне шепотом, т.к. считалось, что он где-то на Кавказе. Он скрывался и скрывался так тщательно, что по целым дням не выходил из своей дачи, — не соблазняясь никакой погодой. Скрывался он вот почему: вначале было объявлено, что Каменев сделает на Съезде писателей доклад и что вообще ему будет принадлежать там, на Съезде, ведущая роль. Потом, очевидно, в ЦК было решено не предоставлять ему этой роли, и он должен был притвориться отсутствующим. Я так и не побывал у него на даче — и забыл весь этот эпизод, но в бытность мою в Кисловодске я получил от Т. Ив. письмо, где она говорит: простите мне ту грубость, с которой я разговаривала с вами на Съезде писателей, но я была так огорчена, что Л. Б. не мог выступить там. О его политической карьере я не знаю ничего, но как литератор он был мне кое в чем симпатичен (хотя его разговоры о Мандельштаме, его статьи о Полежаеве, Андрее Белом и проч. свидетельствовали о полном непонимании поэзии).
(Там же).Реакция Бабеля на те же события была совершенно иной. Насчет самой сути происходящего у него не было и тени сомнений:
► ИЗ СВОДКИ СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР О НАСТРОЕНИЯХ
И.Э. БАБЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАВЕРШЕНИЕМ
ПРОЦЕССА «АНТИСОВЕТСКОГО
ОБЪЕДИНЕННОГО ТРОЦКИСТСКО-
ЗИНОВЬЕВСКОГО ЦЕНТРА»
После опубликования приговора Военной коллегии Верх[овного] суда над участниками троцкистско-зиновьевского блока источник, будучи в Одессе, встретился с писателем Бабелем в присутствии кинорежиссера Эйзенштейна. Беседа проходила в номере гостиницы, где остановились Бабель и Эйзенштейн. Касаясь главным образом итогов процесса, Бабель говорил «Вы не представляете себе и не даете себе отчета в том, какого масштаба люди погибли и какое это имеет значение для истории.
Это страшное дело. Мы с вами, конечно, ничего не знаем, шла и идет борьба с «хозяином» из-за личных отношений ряда людей к нему.
Кто делал революцию? Кто был в Политбюро первого состава?»
Бабель взял при этом лист бумаги и стал выписывать имена членов ЦК ВКП(б) и Политбюро первых лет революции. Затем стал постепенно вычеркивать имена умерших, выбывших и, наконец, тех, кто прошел по последнему процессу. После этого Бабель разорвал листок со своими записями и сказал:
«Вы понимаете, кто сейчас расстрелян или находится накануне этого: Сокольникова очень любил Ленин, ибо это умнейший человек... Для Сокольникова мог существовать только авторитет Ленина и вся борьба его - это борьба против влияния Сталина. Вот почему и сложились такие отношения между Сокольниковым и Сталиным.
А возьмите Троцкого. Нельзя себе представить обаяние и силу влияния его на людей, которые с ним сталкиваются...
Из расстрелянных одна из самых замечательных фигур — это Мрачковский. Он сам рабочий, был организатором партизанского движения в Сибири; исключительной силы воли человек. Мне говорили, что незадолго до ареста он имел 11-тичасовую беседу со Сталиным.
Мне очень жаль расстрелянных потому, что это были настоящие люди. Каменев, например, после Белинского - самый блестящий знаток русского языка и литературы.
(Власть и художественная интеллигенция, документы. 1917-1953. At,
2002. Стр. 325-326).Но даже считая Сокольникова умнейшим человеком, а Каменева самым блестящим знатоком русского языка и литературы после Белинского и искренне жалея, что их расстреляли, ведь можно же было все-таки предположить, что расстреляны они были за какую-то вполне реальную свою политическую (контрреволюционную, как это тогда называлось) деятельность?
Нет, и на этот счет у него тоже не было ни малейших сомнений:
► Я считаю, что это не борьба контрреволюционеров, а борьба со Сталиным на основе личных отношений.
(Там же).Да, Бабель и тут оказался проницательнее, во всяком случае, трезвее многих своих современников.
Ни в малой степени не был он обольщен ни идеями Троцкого, ни обаянием и яркостью его личности. Но он понимал — чувствовал — его масштаб.
Так же обстояло дело и с другими советскими государственными и партийными деятелями, которых уничтожал - и уничтожил — Сталин. Разителен был контраст, бросающееся в глаза отличие их от тех, кто шел — и пришел — им на смену.
Вот несколько бабелевских реплик из доноса другого чекистского осведомителя:
► — Надо, чтобы несколько человек исторического масштаба было бы во главе страны. Впрочем, где их взять, никого уже нет. Нужны люди, имеющие прочный опыт в международной политике. Их нет. Был Раковский, человек большого диапазона...
— Существующее руководство РКП(б) прекрасно понимает, только не выражает открыто, кто такие люди, как Раковский, Сокольников, Радек, Кольцов... Это люди, отмеченные печатью большого таланта, и на много голов возвышаются над окружающей посредственностью нынешнего руководства...
(С.
Поварцов. Причина смерти — расстрел. М.,
1996. Стр. 85).Совершенно очевидно, что эта характеристика относится не только к ближайшему окружению Сталина, но и к нему самому.
«Выдающаяся посредственность» - пренебрежительно кинул о Сталине Троцкий. Развитие событий показало, что он Сталина безусловно недооценил. Но каков бы ни был Сталин, не может вызвать сомнений тот очевидный факт, что приход его к власти был торжеством серости и посредственности.