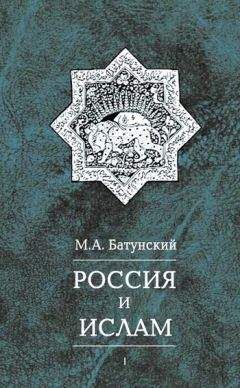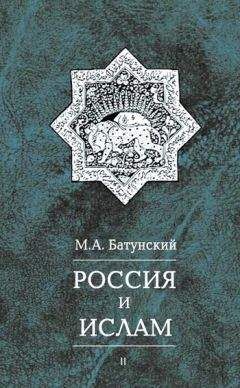200 В любом случае, однако, создалась бы система, сконструированная по «структуре веретена», т. е. система, двигаясь вдоль которой и дойдя до ее конца (при полном обороте «веретена») вновь идет возвращение к ее началу, к ее исходному пункту, причем он вытекает из ее конечного пункта (см.: Кедров Б.М. Пять встреч с Жаном Пиаже // Вопросы философии. 1981, № 9. С. 156).
201 Коль не было сколько-нибудь серьезного русского варианта Реформации, то не было и протестантской установки, согласно которой ничтожество человека есть качество, соотносительное божественному совершенству и только ему одному. «Абсолютно неправомочно, чтобы одни люди… взирали на других с божественной высоты. Идея родового ничтожества людей соединяется с идеей всесвященства и выступает в качестве первой раннебуржуазной версии равноправия. «Только перед Богом», «только Богу» – этот локализующий пароль в конкретных условиях позднего средневековья (западного. – М.Б.) звучал и воздействовал как формула эмансипации» (Соловьев ЭЮ. Биографический анализ как вид историко-философского исследования // Вопросы философии. 1981, № 9. С. 136).
202 В христианстве «место мистериально-гностическои оппозиции посвященные // непосвященные заступает совсем иная оппозиция соратники // противники; для онтологического нейтралитета не остается места… Настоящее состояние бытия – священная война… и человек участвует в этой войне как «верный» или «неверный» воин» (тема militia Ckristï)» (Аверинцев С.С. Символика раннего средневековая // Семиотика и художественное творчество. С. 324).
203 Эта система – «эталонная» и в качестве таковой не познается; все же другие объекты познаются (как – уже совсем иной вопрос), и суть познания состоит в том, что они сопоставляются с «эталоном» (см.: Щедровицкий Г.П. и Розин В.М. Концепция лингвистической относительности Б.Л. Уорфа и проблемы исследования «языкового мышления» // Семиотика и восточные языки. М., «Наука», 1967. С. 98).
204 Не случайно поэтому в русской философско-социологической мысли так долго отсутствовало целостное определение личности, заменяясь мозаичным панно отдельных понятий и принципов. Лишь в этом плане можно говорить о некоторой конгениальности домодернизационной русской культуры не западным – пред-, и особенно постренессансным (настаивавшим на категории индивидуального стресса, мотивации достижения, рационально достигаемой ясности, на верифицированных и количественных методах, опираясь на прямое самораскрытие субъекта), – а «азиатским теориям личности», с их акцентом на корпоративное благосостояние, переживаемую, экзистенциальную ясность и интуитивную логику интуитивно-образное, «со-переживательное» мышление. Локализованности западной личности в ее индивидуалистической, определенной конкретным пространством, временем и образом действия основе противостоит неаутоцентрированность «восточной личности». Ее основная структура находится вне индивида и выступает в виде «соотнесенности», фокусированной на пространстве «между» индивидами. Отсюда – ведущая роль всевозможных коллективистских формообразований (см. подробно Pedersen PB. Asian Personality Theories // Corsini R.J. (ed). Current Personality Theories. Ithaca, 1977. P. 367–397), значительнейшим образом сужающая зону противоречий между культурными (традиционные ценности, обычаи, ритуалы, верования, философии и т. п.) и «контркультурными», индивидуалистическими силами (см. подробно: Diaz-Guer-rero R. Origines de la personalité humaine et des systèmes sociaux // Revue psychologie appliqué. P., 1979. T. 29. № 2. P. 139–152). Сколь важен именно такой критерий дифференциации культур, свидетельствуют следующие слова Макса Борна: «Мир образуется из «я» и «не я» из внутреннего мира и внешнего мира. Отношения между этими двумя полюсами являются объектом любой религии и философии. Однако каждое учение по-разному изображает ту роль, которую играет субъект в мировой картине. Значение, которое придается субъекту в картине мира, представляется мне тем масштабом, руководствуясь которым можно расположить по порядку, нанизывая, как жемчуг на нитку, религиозные верования, философские системы, мировоззрения, укоренившиеся в искусстве или науке» (Борн Макс. Физика в жизни моего поколения. Сб. статей. М., 1963. С. 10).
205 Соловьев Э.Ю. Биографический анализ // Вопросы философии. 1981, № 9. С. 137.
206 Имеется в виду, конечно, классификация с позиций христианской догматики, и только, – а вовсе не та («современная», «научная»), которая прежде всего предполагает классификацию множества объектов (разбиение их на непересекающиеся классы с жесткими границами между ними) в соответствии с имеющимся уже предварительным представлением о классификационной структуре данного множества и уточнение этих представлений, – и, значит, полный отход от какой-либо ясно очерченной идеологической предвзятости.
207 Эта антиномичность категориальной структуры любой «прагматической» (=«и релятивистской») идейной конструкции могла в лучшем случае обосновывать лишь простой взаимопереход (скажем, только из ислама в христианство, или наоборот) неопосредованных противоположностей, которые в этом взаимопревращении не синтезируются, а по-прежнему долго еще сохраняются как противоположности. Вспомним об оппозиции «старые христиане» / «новые христиане» в Испании, о подозрительном отношении «исконных православных» к «новокрещенам» в России, скрытую поляризацию в средневековых исламских общинах вдоль линий, детерминированных в значительной степени последовательностью обращения (см.: Bulliet R.W. Conversion to Islam in the Medieval Period. An Essay in Quantative History. Cambr. (Mass) – London: Harward University Press, 1979.).
208 Ни один тогдашний русский прагматик, сколь бы высокое положение он ни занимал, не мог отойти не только от этой модели, но и от всего – или почти всего – господствующего конфессионального комплекса. Показательна в этом плане такая, например, деталь. Теоретики великокняжеского самовластия стремились первоначально построить свои представления на «светских идеологических основах («Сказание о князьях владимирских»), но потом вынуждены были обратиться к различного рода традиционно-церковным концепциям о божественной природе политической автократии» (Зимин А.Л. Россия на пороге нового времени. М., 1972. С. 71).
209 Их метод, следовательно, есть известная десубстанциализация ислама – ввиду значительного перевеса сферы описания его функций и структур. Эта дискретная, корпускулярная картина мира (можно назвать ее «демокритовской») отличается, следовательно, от субстратного континуального (задаваемого аристотелевской философией) – и вообще требующего для проникновения в глубь явлений, в их истинную природу, теоретически-насыщенного стиля мышления. Конечно, этот метод ограничен – как и всякий метод вообще, – требуя принципиальной дополнительности описания, особенно тогда, когда вставала потребность в интерпретации иррационального типа поведения (ср. с известной мыслью из «Камасутры», 8.32: «Настолько лишь простирается действие наук, насколько слабо чувство в людях, когда же колесо страсти пришло в движение, то нет уже ни науки, ни порядка»; ср.: там же 10.6; 15–16; 30 и др.).
210 Для анализа этой группы – и для возможностей ее сравнения с традиционными – можно ввести такое понятие, как «вектор времени», указывающий направление, в котором расположено событие относительно точки отсчета, – одновременность, предшествование, следование (см.: Bull W.E. Time, Tense und the Verb. A Study in Theoretical and Applied Linguistics with Particular Attention to Spanish. Univ. of California Press. Berkley and Los Angeles, 1960. P. 14). Если первые два понятия непосредственно связаны с моментом речи, то понятие вектора времени отражает последовательность действий относительно друг друга вне зависимости от момента речи. В различных отчетах о путешествиях и хрониках типа «Повести» Нестора Искандера и др. все явственней начинало преобладать историческое употребление видо-временных форм, вследствие чего происходит совмещение оси ориентации прошедшего с осью ориентации настоящего, и соответственно точка отсчета настоящего совпадает с точкой отсчета прошлого. Для данной группы текстов – и особенно таких, как «Повесть…» Искандера, – характерна такая стилистическая функция исторического употребления видовременных форм, как «историческое речевое» (см. подробно: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 271–280). Ему же присущ внезапный переход от форм прошедшего времени к формам настоящего и обратно к формам прошедшего. Выступая на фоне прошедшего времени, эти образования как бы переносят события прошлого в плоскость настоящего, способствуя тем самым живости и яркости изложения. Делая переход от форм прошедшего к формам настоящего, говорящий как бы пытается вызвать перед глазами слушающего картину прошедших событий. «Историческому речевому» способствует высокая степень экпрессивности. Такое употребление видовременных форм глагола обычно направлено на то, чтобы вызвать у слушателя определенную реакцию, чтобы он представил себе прошедшие события и определенным образом их оценил (см. подробно: Орлова Л.Я. Особенности текстуального употребления некоторых видовременных форм английского языка // Проблемы структурно-семантической организации и интерпретации текста. Барнаул, 1980. С. 65). В «Повести…» Искандера регулярное, последовательное употребление «исторического повествовательного» – т. е. употребление транспонированных форм в авторской речи – создает эффект постоянной «открытости», беспредельности дальнейших событий, способствует созданию атмосферы постоянного ожидания, в соответствии с пророчеством автора о грядущем всемирно-историческом торжестве Руси над исламом.