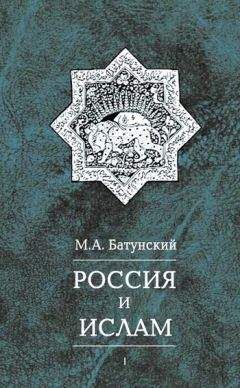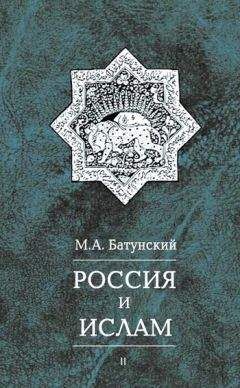246 Т. е. прежде всего перехода от родного языка к русскому. А такой переход всегда аналогичен, согласно Е. Сапир, переходу от одной геометрической системы отношений к другой. Окружающий мир, с которым осуществляются отношения, один и тот же для любого языка; мир точек один и тот же в любой системе отношений. Но формальный подход к одному и тому же элементу опыта, так же как и к данной точке пространства, настолько различен, что конечное чувство ориентации не может быть одинаковым ни в двух языках, ни в двух системах отношений. Необходимо считаться с полностью – или по крайней мере относительно – различными формальными нормами, а эти различия обладают своими психическими коррелятами (см.: The Grammarian and his Language. Selected Writings of E. Sapir. 1949. P. 153). Как, однако, все это конкретно соотносилось со старыми (мусульманскими) и новыми (христианскими) религиозными взглядами, играли ли все они более или менее важную роль в определении жизненных позиций, остается пока открытым вопросом.
247 Баскаков НА. Русские фамилии тюркского происхождения. С. 164.
248 Которая умело учитывала и грызню знатных татар между собой, и их совместную неприязнь к выходцам из других ханств.
249 Здесь не имеются в виду «периферийные» новокрещеные, притом «плебейских статусов». Напротив, последние, как писал в 1593 г. – после того, как Иван Грозный, взяв Казань, приказал окрестить несколько тысяч мусульман и язычников, – казанский владыка Гермоген, живут вместе с татарами, чувашами и вотяками, «едят и пьют с ними, к церквам Божьим не приходят, крестов на себе не носят, попов не призывают и отцов духовных не имеют; обвенчавшись в церкви, перевенчиваются у попов татарских… от татарских обычаев не отстают и совершенно от христианской веры отстали, и в православной вере не утвердились, потому что живут с неверными вместе, от церквей далеко; и видя такое неверье в новокрещеных, иные татары не только не крестятся в православную веру, но ругаются ей…» Далее Гермоген сообщает еще более неприятную для православно-русской официальной идеологии вещь: о том, что в той же Казани многие русские люди живут у татар, черемисов, чувашей, берут себе жен и мужей из их среды и все они «от христианской веры отпали, обратились у татар в татарскую веру» (Цит. по: Фирсов Н. Положение инородцев Северо-Восточной России в Московском государстве. Казань, 1886. С. 213–214). Если даже и верно это сообщение ретивого христианизатора, то все равно подобного рода факты не имели никакого принципиального значения для духовной истории допетровской России.
250 «Особенную известность приобрел себе в этом отношении, – напоминает Перетяткович, – городок Касимов, которым в течение весьма продолжительного времени один за другим управляли татарские царевичи, – и на присутствие их в Русском государстве иногда даже указывалось представителям магометанства, как на решительное доказательство веротерпимости по отношению к магометанам России. В последующих отношениях России к соседним магометанским общественным союзам, к ее борьбе с ними и в утверждении среди них ее влияния большое значение имели служилые татарские царевичи: по временам они были послушными орудиями в руках ловкой московской политики» (Перетяткович Г. Поволжье в XV–XVI веках (Очерки из истории края и его колонизации). М., 1877. С. 150). О решающей роли эмигрировавших в Москву татарских князей в обороне русских границ на юге и на востоке см.: Stokl G. Die Entstehung des Kosakentums. – Verôffentli-chungen des Osteuropâinstitutes. München, 1953. S. 8.
251 «Казанские аристократы» даже по тем временам отличались своей элементарнейшей неграмотностью. Так, из трех «больших» послов, отправленных в 1531 г. в Москву, два князя не могли даже подписать своего имени. «И подобное явление в сословии вовсе не было случайно, – резонно утверждает затем Перетяткович, – потому что, когда договорная клятвенная запись… отослана была для окончательного утверждения царю в Казань, то при этом было велено «князьям, которые грамоте умеют, руки свои приложити, а которые грамоте не умеют и тем печати свои прикласти» (ПСРЛ. VIII, 1531, 1533 гг.).
252 Во главе мусульманского духовенства Казанского ханства стоял сеид – потомок Мухаммеда (см.: Вельяминов-Зернов О.В. Исследование о касимовских царях и царевичах. T. II. С. 440). Значение сеида в Казани, отмечает Перетяткович, «было большое: в отсутствие царя, при сношении с другими государствами, он становился «в головах»; когда цари казанские или тамошние князья сносились с Россиею, о делах чрезвычайной важности, то нередко в таких случаях они прибегали к посредству этого духовного сановника. Если сеид появлялся публично и в большом обществе, то ему все оказывали чрезвычайное уважение, начиная с царя и кончая обыкновенным татарином… Магометанские татары Казани отличались такою же ревностью к своей религии, как и предшественники их – волжские болгары (сильное преувеличение касательно и тех и других! – М.Б.) как последние, увлекаемые религиозным фанатизмом (обычное для дореволюционно-русской историографии обвинение в адрес мусульман. – М.Б.) побуждали христиан обращаться к исламу и, в случае отказа, замучивали их (опять-таки – очевидная натяжка! – М.Б.)… /Но/ в Казани князья пользовались большими правами и доходами… Даже авторитет сеида, представителя религии, не останавливал аристократов: они убивали его публично, не стесняясь его саном, коль скоро он с ними расходился в симпатиях к той или иной из политических партий и делался таким образом для них опасным» (Перетяткович Г. Поволжье… С. 125–127). Этот процесс перманентной деструкции аппарата и политической и духовной власти никак не располагал не только к миссионерству, но и к стабильному функционированию мусульманского религиозного института в пределах собственно Казанского ханства – даже и тогда, когда в глазах Москвы оно могло представать как более или менее приемлемая для нее форма ислама.
253 Фирсов Н. Положение инородцев. С. 199–200.
254 См. также: Sarkisyanz Е. Geschichte der orientalischer Volker Russlands bis 1917. München, 1961; Его же. Rubland und der Messiannismus des Orients. Tübingen, 1955. (Книга эта во многом интересна, но в целом ее основная концепция кажется неадекватной, о чем я надеюсь подробнее поговорить отдельно.); Nolte Н.-Н. Religiose Toleranz in Russland. 1600–1725. Gottingen, 1969.
255 Обратим в данной связи внимание и на некоторое усиление интереса к древнееврейской культуре. Так, в течение последней трети XV в. и начала XVI в. в средневеково-русской письменности появилось несколько переводов непосредственно с древнееврейских оригиналов – «Псалтыри» Феодора-жидовина, Логики, Трепетника, Шестокрыла, Аристотелевых врат, Виленского сборника с несколькими книгами Ветхого Завета, а также ряда мелких статей (Перетц В.Н. К вопросу о еврейско-русском литературном общении // Slavica. V. 1926. Р. 268–269). Позднее, в 50-70-х годах, Н.А.Мещерский увеличил список древнерусских переводов с древнееврейского указанием на обследованные им книги Есфири, Еноха, отрывки из книги Иосипон и некоторые древнерусские апокрифы, а также установил, что эти тексты были переведены не в конце XV – начале XVI в., а еще в Киевский период (Мещерский H.А.: 1) К вопросу об изучении переводной письменности Киевского периода // Ученые записки Карело-финского педагогического института. T. II. Вып. 1. Петрозаводск, 1956; 2) К истории текста славянской книги Еноха // Византийский временник. T. XXIV. 1964; 3) К вопросу о составе и источниках Академического хронографа // Летописи и хроники. М., 1974). «Тем самым, – пишет Алексеев, – вопрос о еврейско-русских литературных контактах получил историческую перспективу, в которой различаются по крайней мере два этапа. Изучение древнейшего из этих этапов – Киевского – обогащает наши знания о развитии и истории письменности Древней Руси, соединяя древнерусскую культуру еще одной прочной нитью с ее средиземноморскими истоками. С другой стороны, установление взаимосвязи двух этапов открыло бы неизвестный доселе источник религиозно-реформационных движений на северо-западе России XV – начала XVI в.» (Алексеев А.А. «Песнь песней» по русскому списку XVI в. в переводе с древнееврейского оригинала // Палестинский сборник. Вып. 27(90). История и филология. Л., 1981. С. 63. Курсив мой. – М.Б.).
256 Gunn G. Interpretation of Otherness: Literature, Religion and the American Imagination. № 4: Oxford Univ. Press, 1979. P. 6.
257 Она же в 60-70-e годы XV в. характеризуется (речь идет здесь о «восточном фронте») стремлением, во-первых, не допустить союза волжских ханств с Золотой Ордой (с этой целью в 1467–1669 гг. Иван III, мучимый, как и его преемники, «кошмаром коалиций», совершал походы на Казань); во-вторых, укрепиться (вначале – экономически) в Средней Азии, на Кавказе и в Персии, которая в свою очередь видела в Москве союзника в борьбе с Османами (см. подробно: Семенов Л.С. Путешествие Афанасия Никитина. М., 1980. С. 8–28). Русские посольства появились в Шемахе и в Тебризе. «Значит, мысли Афанасия Никитина о налаживании торговых связей между Индией и Россией через Персию и Кавказ были не так уж далеки от возможного» (Там же. С. 122).