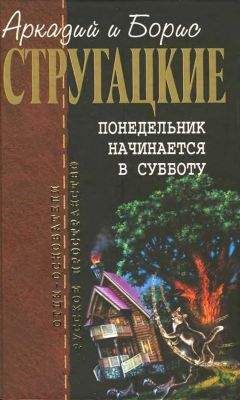гасят ветер» завершил трилогию о Максиме Каммерере и его деятельности в КОМКОНе.
В этом романе рассказ Максима Каммерера строится по законам детектива. Главный герой, Тойво Глумов, работает под началом Максима в Отделе чрезвычайных происшествий. Перед ним стоит задача найти виновников ряда загадочных, почти сверхъестественных событий, происходящих на Земле в последние годы XXIII века. Хотя эти чрезвычайные события, начиная от серии самоубийств китов, бросающихся на отмель, и заканчивая вторжением склизкого чудовища в голливудском стиле, логически не связаны, но, взятые вместе, они наводят на мысль о воплощаемом некой сверхъестественной силой умысле. Происшествия 99 года преисполнены поистине апокалиптического смысла. Тойво намерен разоблачить происки империалистической сверхцивилизации – известной, предположительно, как Странники, – стоящей за апокалиптическими предзнаменованиями. Неотступно преследуя космического врага, он сталкивается с тайной своей собственной двойственной личности: он сам принадлежит к группе избранных сверхлюдей, которым суждено инициировать превращение человечества в высшую расу. Как Эдипа – поиски причин бедствий его народа, поиски Тойво приводят его в конце концов к самому себе. В романе «Волны гасят ветер» череда воспоминаний Максима Каммерера позволяет раскрыть тайну утраты Тойво своей человеческой природы и обретения сверхчеловеческих способностей.
В нашем анализе «Жука в муравейнике» подчеркивалась роль префигуративного мотива как известных точки отсчета и аналогии, помогающих читателю ориентироваться среди противоречивых и неоднозначных событий, происходящих в романе. Более того, префигуративный мотив в «Жуке в муравейнике» следует тому, что Уайт назвал «однолинейной схемой развития», то есть осовремененный сюжет соотносится с положенным в его основу мотивом абсолютно просто и прямолинейно. В порядке их появления в рассказе легендой о Пестром Дудочнике предопределяются персонажи (паяцы, дети), образы (крысы, колодцы, в которых «утонули» взрослые) и события (массовое исчезновение) из отчета Абалкина о планете Надежда. В романе «Волны гасят ветер» эта модель искажена, а префигуративная схема фрагментирована и перенесена на более чем одного героя или ситуацию.
Действующая схема – это жизнь Иисуса, как она известна нам по Евангелиям. Приведенный ниже анализ воссоздает положенную в основу схему и показывает, как она определяет форму, хотя и не всегда содержание сюжета. Иными словами, несмотря на то что для многих событий, составляющих биографию Тойво, прообразом служит жизнь Иисуса, моральные взгляды Тойво далеко не всегда «христоподобны». В ряде случаев аллюзии на тот или иной евангельский сюжет перемещаются с Тойво, основного героя, на какого-нибудь второстепенного персонажа.
Намек на префигуративный мотив дается сразу во введении, датируемом более поздним временем, чем основное действие романа. Во введении Максим Каммерер излагает свои мысли светским псевдонаучным языком; тем не менее он косвенным образом берет на себя роль апостола, «свидетеля, участника, а в каком-то смысле даже и инициатора» «Большого Откровения».
С точки зрения непредубежденного, а в особенности – молодого, читателя, речь в нем пойдет о событиях, которые положили конец целой эпохе в космическом самосознании человечества и, как сначала казалось, открыли совершенно новые перспективы, рассматривавшиеся ранее только теоретически. Я был свидетелем, участником, а в каком-то смысле даже и инициатором этих событий <…> явившихся причиной той бури дискуссий, опасений, волнений, несогласий, возмущений, а главное – огромного удивления – всего того, что принято называть Большим Откровением [Стругацкие 2000–2003, 8: 534] [13].
Центральная фигура этой истории, как она предстает через призму апостольской памяти рассказчика, – Тойво Глумов – обладает многими чертами, которые традиционно приписывались Иисусу Христу:
…я вижу его худощавое, всегда серьезное молодое лицо, вечно приспущенные над серыми прозрачными глазами белые его, длинные ресницы, слышу его как бы нарочито медлительную речь, вновь ощущаю исходящий от него безмолвный, беспомощный, но неумолимый напор, словно беззвучный крик <…>…и наоборот, стоит мне вспомнить его по какому-либо поводу, и тотчас же, словно их разбудили грубым пинком, просыпаются «злобные псы воспоминаний» – весь ужас тех дней, все отчаяние тех дней, все бессилие тех дней – ужас, отчаяние, бессилие, которые испытывал я тогда один, потому что мне не с кем было ими поделиться [Стругацкие 2000–2003, 8: 535].
Иконографические черты Христа – худощавый, сероглазый, парадоксально молодой и серьезный, беспомощный и бесконечно могущественный – поначалу, кажется, подтверждают схему, вырастающую из префигуративного мотива. О библейском контексте мы уже предупреждены упоминанием о Большом Откровении, и появление похожей на Христа центральной фигуры в воспоминаниях Максима вполне уместно. Но вопреки ожиданиям схема прерывается посреди абзаца – и часть префигуративного мотива перемещается на рассказчика. На второй набор характерных черт, принадлежащих фигуре Христа, – Его неизбежное одиночество и отчаяние (в Гефсиманском саду) – претендует сам рассказчик. Этот отрывок – типичный пример приема, который Стругацкие будут использовать во всем романе: дробление на фрагменты и (пере)группировка префигуративного мотива. Например, в следующей сцене Тойво встречает одного из коллег, и они обмениваются приведенными ниже репликами. Не нужно знать контекста, в котором происходит диалог, чтобы признать в нем часть префигуративной схемы:
– Нет, – сказал он [Гриша]. – Я не могу как ты, вот в чем дело.
Не могу. Это слишком серьезно. Я от этого весь отталкиваюсь. Это же не личное дело: я-де верю, а вы все – как вам угодно. Если я в это поверил, я обязан бросить всё, пожертвовать всем, что у меня есть, от всего прочего отказаться… Постриг принять, черт подери! Но жизнь-то наша многовариантна! Каково это – вколотить ее целиком во что-нибудь одно… Хотя, конечно, иногда мне становится стыдно и страшно, и тогда я смотрю на тебя с особенным восхищением… А иногда – как сейчас, например, – зло берет на тебя глядеть… На самоистязание твое, на одержимость твою подвижническую… И тогда хочется острить, издеваться хочется над тобою, отшучиваться от всего, что ты перед нами громоздишь…
– Слушай, – сказал Тойво, – чего ты от меня хочешь?
Гриша замолчал.
– Действительно, – проговорил он. – Чего это я от тебя хочу? Не знаю.
– А я знаю. Ты хочешь, чтобы все было хорошо и с каждым днем все лучше.
– О! – Гриша поднял палец [Стругацкие 2000–2003, 8: 622–623].
Отождествление Тойво с его прообразом – Христом – здесь усиливается. Следовать примеру Тойво означает «пожертвовать всем» и «принять постриг». Гриша смотрит на Тойво ⁄ Христа с «особенным восхищением», однако чувствует «стыд и страх», сталкиваясь с его примером. И в этот момент возникает совершенно не ортодоксальный, но очень современный элемент двусмысленности: Гриша также чувствует отвращение и недовольство по поводу мученичества Тойво. В конце одним иконографическим жестом, который является и самим символом, и пародийной подменой символа, Христос (обращаясь к ученику, Грише) поднимает палец, наставляя и поучая: