Глава 4-я настраивает читателя в этом отношении как будто бы на оптимистический лад: «Во вторник, «поздно проснувшись … с тревожным, изумлённым блаженством», он почувствовал, что «помолодел ровно на девять лет».2172 Решительно настроенный, он «без волнения» отправился к Людмиле и, ведя себя довольно бесцеремонно, объявил ей, ещё сонной, что расстаётся, так как любит другую женщину. Какой бы ни была Людмила, но сцена этого прощания симпатии к Ганину не добавляет. Так или иначе, но «Ганин почувствовал, что свободен». Снова отправившись бродить, он отмечает про себя, что «всегда вспоминал Россию … с минувшей ночи он только и думал о ней»2183 – внушённой Ганину автором этой мыслью подчёркивается то немаловажное обстоятельство, на котором Набоков настаивал и в своих мемуарах: в его памяти первая любовь навсегда связалась с ностальгией по родине. И герой пустился в воспоминания…
Заметим, что Ганин в Берлине – в странном, явно искусственном, противоестественном одиночестве: ему 25 лет, но ни родителей, ни каких-либо родственников, друзей, приятелей, наконец, просто знакомых – у него нет. Из всех обитателей пансионата только Подтягин может как-то располагать его к доверительному разговору: «Он зашёл к старому поэту оттого, что это был, пожалуй, единственный человек, который мог бы понять его волненье».2194 Но Подтягин не понял, ему «всё это» показалось «скучно немного. Шестнадцать лет, роща, любовь».2201 Банальная, поверхностная реакция собеседника вызвала у Ганина «такую грусть», что отбила всякую охоту продолжать разговор. И только уходя, на пороге, он вдруг сказал: «Знаете, что, Антон Сергеевич? У меня начался чудеснейший роман. Я сейчас иду к ней. Я очень счастлив».2212
Ганину так хотелось поделиться своим счастьем, так хотелось сочувствия, понимания, поддержки, может быть, даже совета, но не привелось – автор не допустил.
Набоков намеренно поставил Ганина в этой ситуации в условия полной изоляции. Наделив его к тому же собственным эгоцентризмом и чувством дистанции в личностных отношениях, почти исключающим возможность интимной исповеди как таковой, – он тем вернее мог вести своего героя к запланированному финалу. Целью написания романа, напомним, было стремление Набокова «избавиться от себя», от своей ностальгии по первой любви. В романном выражении это означало «избавление» героя от Машеньки, то есть – расставание с ней. Другие персонажи – нежелательные свидетели или советчики – могли бы только усложнить задачу. Поэтому только естественно, что автор, одолжив главному герою свою память и воображение, отправляет его в сомнамбулическое странствие по берлинским улицам: «То, что случилось в эту ночь, то восхитительное событие души переставило световые призмы всей его жизни, опрокинуло на него прошлое».2223 И на следующий день, расставшись с Людмилой, «он переходил из садика в садик, из кафе в кафе, и его воспоминание непрерывно летело вперёд, как апрельские облака по нежному берлинскому небу»: вдохновлённый гением своего создателя, Ганин «был богом, воссоздающим погибший мир».2234 К вечеру вторника он, по накалу исступлённого ожидания, был сопоставим с осмеянным всеми своим оппонентом: «Осталось четыре дня: среда, четверг, пятница, суббота. А я сейчас могу умереть».2245
Обращённый к себе призыв «Подтянуться!» не помог – воспользовавшись короткой отлучкой Алфёрова (вышел купить газету), он не устоял от соблазна и, зайдя к нему в комнату, стал рыться в письменном столе, и даже случайно застигнутый Кларой, кураж не утратил, – её же, в Ганина влюблённую, приведя в состояние крайнего замешательства.2256 В этом инциденте автор более чем убедительно демонстрирует защитную психологическую броню, обретённую его героем в решимости достичь поставленной цели. Этой ночью, ближе к трём часам, Ганин, поглощённый своими воспоминаниями, шёпотом повторяя имя – Машенька, – слышал, как за стеной Алфёров тоже «думал о субботе».2261 Теперь и ему сродни та же лихорадка ожидания счастья, которой страдал сосед и над которой он так недавно и высокомерно насмехался.
Утро среды началось для Ганина получением длинного сиреневого конверта, а всё, что сиреневое, – так уж повелось у писателя Сирина, – знак его особого внимания к описываемому эпизоду. Это было письмо от Людмилы, и Ганин проделал с ним ряд манипуляций, свидетельствующих о нерешительности (сунул в карман, повертел в руках и кинул на стол, сходив затем за щёткой, чтобы, как обычно, подмести пол в комнате), прежде чем, наконец, «по быстрому сочетанию мыслей» вспомнил о «других, очень старых письмах», с крымских времён лежавших у него на дне чемодана. И только после всего этого кружения вокруг и около «сиреневого пятна», лежащего на столе, – участь письма была решена. Разорванное на клочки «сильными … пальцами», оно было выброшено непрочитанным в распахнутое толчком локтя окно. «Один лоскуток порхнул на подоконник,..», – как бы случайно, но, разумеется, с его, Сирина, ведома, и прежде чем Ганин «щелчком скинул его … в бездну», он успел прочесть «несколько изуродованных строк», из которых было понятно, что Людмила желает ему, чт(«обы ты был сча»)стлив.2272
Ганин и в самом деле счастлив – и его буквально распирает поделиться хоть частичкой этого состояния с кем-то ещё. Идя к обеду, он обгоняет Клару, чтобы открыть ей двери и улыбнуться «красивой и ласковой улыбкой». Он вызывается помочь бедняге Подтягину, которому никак не удаётся получить визу в Париж: «У меня времени вдоволь. Я помогу вам объясниться».2283 Недаром старый поэт Подтягин замечает, что Ганин «такой озарённый», видит «необычную светлость его лица».2294 Ганину же эти люди стали казаться теперь лишь тенями «его изгнаннического сна», а сам город – лишь «движущимся снимком». И его тень тоже «жила в пансионе госпожи Дорн, – он же сам был в России, переживал воспоминанье своё, как действительность».2305 «Это было не просто воспоминанье, а жизнь, гораздо действительнее, гораздо “интенсивнее”, – как пишут в газетах, – чем жизнь его берлинской тени».2316
Перемежая наплывы воспоминаний Ганина со сценами его жизни в пансионе, автор погружает своего протагониста в состояние экстатической устремлённости к воссоединению с Машенькой, к восстановлению былого счастья с ней, как бы игнорируя, что счастье это, в своё время, было очень недолгим. Однако периодически, исподволь, капельно, яд сомнений подмешивается в гипнотические сны о прошлом: «Я читал о “вечном возвращении”, – во вторник размышляет Ганин, уже расставшись с Людмилой, – …А что, если этот сложнейший пасьянс никогда не выйдет во второй раз? Вот … чего-то никак не осмыслю».2321 Более того, в тексте 9-й главы, относящемся к четвергу, есть вполне здравые рассуждения повзрослевшего с тех пор, нынешнего, двадцатипятилетнего Ганина о причинах, приведших к расставанию его с Машенькой: «Всякая любовь требует уединения, прикрытия, приюта, а у них приюта не было. Их семьи не знали друг друга; эта тайна, которая сперва была такой чудесной, теперь мешала им».2332 А когда Машеньку в самом начале нового года увезли в Москву, оказалось, что «эта разлука была для Ганина облегчением».2343
Нет сомнений, что, сознательно выявляя зыбкость фундамента, на котором строятся мечты Ганина о совместном будущем с Машенькой, автор готовит читателя к неожиданному виражу: отказу героя от столь, казалось бы, чаемого им счастья. Неожиданному – так как фанфары фанатической целеустремлённости, чем ближе к финалу, тем громче возвещают о будущем триумфе, о победе Ганина над… Алфёровым. Мачо, избавляющий любимую женщину от случайного мужа, человечка жалкого и пошлого, – это ли не подвиг? А пока что он, совсем не по-джентельменски, но, похоже, «по законам его индивидуальности», практикуется в беспардонном обращении с покинутой им, пусть пошлой, но всё-таки любившей его женщиной, во всём виня её и только её, к себе, по-видимому, никаких претензий не имея. В кривом зеркале – но это проекция его потребительского отношения и к Машеньке.
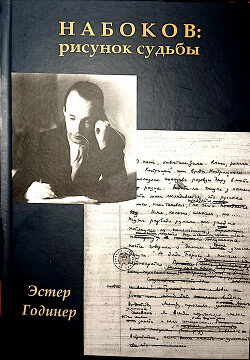



![Карочка - [email protected] - Наследники](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)